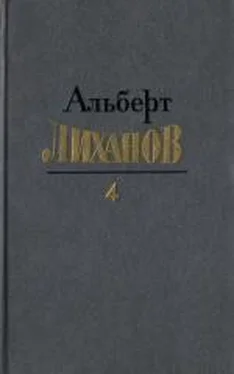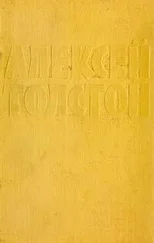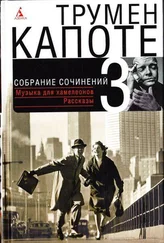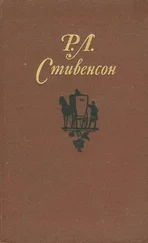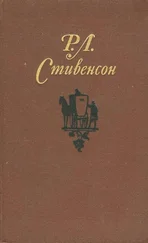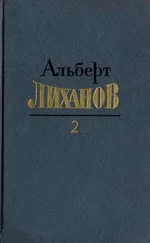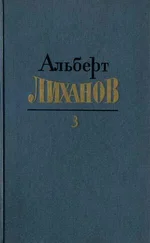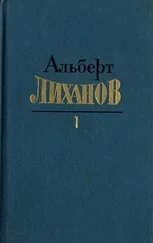Виктор Безбородов, Москва».
Еще один ответ Владимирову:
«Мне 37 лет. Женат. Двое детей. Пока. Работаю не инженером, а наладчиком автоматических линий на КамАЗе. Имею, как считаю, все необходимое для нормальной жизни. Только все наше, советское: и аквариум с рыбками, и совесть трудящегося человека, и постоянное желание работать артистично, и чувство отвращения к тунеядцам и жуликам.
Мне импонирует молодой киевский инженер А. Козарь, стремящийся стать начальником цеха, потому что он хочет работать на работе. Мне импонирует тот начальник цеха, который забывает, что такое свободное время, который не покидает рабочего места, пока не уверится, что им сегодня сделано все необходимое и возможное. Но почему он зачастую не может вовремя уйти с работы домой, где его ждут жена, дети, друзья, не имеет возможности почитать новую книгу, сходить в театр?
Не потому ли, что Владимировы не сделали что-то, работая спустя рукава, скорее всего отбывая, как они считают, время, дабы потом с неистраченной силой на халтуре «зашибать деньгу»?
Не слишком ли много развелось у нас скрытых тунеядцев, которые, получая и в самом деле немалые деньги, паразитируют за счет тех, кто «вкалывает», «лезет из кожи вон», «становится на уши»?
Р. Нурми,
г. Брежнев».
Резкость общественного мнения в оценке жизни Владимира Владимирова очевидна и понятна. Открытость его письма отдает цинизмом преуспевающего дельца, а не честной откровенностью.
Александр Козарь хочет быть первым в деле. Если бы речь шла только о профессионально-личном его первенстве, не возникло бы даже предмета спора. Но он имеет в виду первенство над людьми, первенство в управлении, а всякое первенство — дело не однозначное, требующее еще много иных нравственных достоинств. Это мы выяснили.
Но вот Владимир Владимиров говорит вроде бы о сугубо личном — о том, что в свободное время он не пьянствует и не бездельничает, не лупит «козла» во дворе, а зарабатывает деньги, создает материальное благополучие, в сфере которого он не хочет быть последним.
Он не утверждает, что хочет быть первым. Нет. Просто не хочет быть последним. Всего-то.
Вот и вышли мы к главному: ради чего жив человек? Во имя чего?
Помните давнее, гётевское: «Люди гибнут за металл!»
Что же выходит? Времена сменяют друг друга, на дворе иная социальная система, а герои Гёте, пушкинский скупой рыцарь — пусть в иной одежде, без доспехов — живы, живы?
Для чего? Чтобы доказать вечное всесилие денег, власть вещей, превосходство материального над моральным? К счастью, дело обстоит не так.
Бессребреничество истинного гуманизма, власть доброты и милосердия новое общество и доказало, и утвердило как один из главных своих принципов. Непростая наша эпоха в самые тяжелые дни жизни — войну, послевоенную голодуху — негромко, но твердо демонстрировала такие горние высоты духа, отзывчивости, бескорыстия, каких не знавала земля до сих пор — до наших, до советских пор. Спасение другого, чужого, жертвуя собой, усыновление неизвестных детей — более сорока — одним лишь любящим сердцем, пополам последняя горбушка, — и вот что поразительно: чем горше доля, чем круче беда, тем мягче и сострадательнее люди, тем ближе они друг к другу.
Не от того ли уж, думаешь порой, что сытость глуха, а порой и слепа, что память ее забывчива, а желания — ленивы?
Видать, уж так устроен человек, что в часы беды собственная горечь делает близкой страдания другого, способна устыдить, а, устыдив, совершить благо.
Горечь — или сладость, беда — или счастье, волнение — или покой, — неужто же только тяжкое подвигает человека к великодушию доброты?
В сложных этих категориях ответ по принципу «или — или», пожалуй, не годится. Беда воспитывает, вот что. Ее уроки не просто памятны, они меняют сущность человека. Человек, испытанный бедой, в дни благополучия никогда не забудет о прошлом. Не беспечностью покоя, а тревогой лишения будет он измерять свои поступки, свое отношение к людям.
В этом, наверное, и состоит главная разность поколений. В этой области, верно, и лежит главная причина попреков: вот мы были такими, а вы…
Слов нет, испытанный бедой отличен от того, кто не знал страданий. Не зря ведь живы старые поговорки, среди которых, к примеру, и такая: «Сытый голодного не разумеет».
Все это так, миропонимание, мироощущение — личные, не заемные из книжек и школьных уроков, а самим собой, своей жизнью проверенные — отличаются у тех, кто страдал, от тех, кто знает об этом понаслышке.
Читать дальше