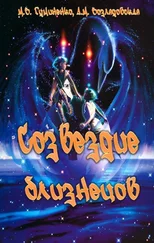– Я пришел, – сказал он вместо приветствия.
***
Рябая заглянула бельмом под простыню и сказала:
– Николай Николаевич опять две недели дома сидит. Уволился, что ли? Нет, я не скажу, он смирный, Николай Николаевич.
– Я тоже одна, женщина, живу, – отвечала соседка, явно невпопад. Она была на ухо туга.
Рябая обиделась и замолчала.
***
Дружно курили. Волосатый читал:
– Пушкин на стуле сидеть не умел.
Пегий заерзал. Человек с изящным профилем, украшенным синей бородкой, едко усмехнулся.
– Погоди, Паша, – шепнул изящный, – изобразишь все в комплекте.
Уши пегого обиженно отвернулись.
***
Быстро темнело. Летний сад опустел. В сумерках белели статуи.
***
Свеча осветила букет из осенних листьев. Человек в серой шляпе положил свою шляпу на стол и сказал:
– Pauline, nous sommes enfin tout les deux ensemble. Que je suis contente!
Молодая особа нервно ответила:
– Шура! Ты к кому обращаешься? Знаешь ведь ты, что я не говорю по-французски.
– Pauline! – горестно воскликнул тот, кого назвали Шурой. – Сколько раз, о сколько раз я просил, я на коленях умолял тебя не называть меня этой плебейской кличкой.
Сейчас же после этого человек, говорящий по-французски, подошел к старинному полубуфетцу и выдвинул полочку красного дерева, открыл дверцу и вытащил граненый штофчик с чем-то красненьким, налил рюмочку, попробовал, прищурился, облизнулся и сказал:
– Delicieux!
***
Взошла луна и осветила Летний сад. По аллеям белые статуи.
***
В комнате было сильно накурено. Профиль, украшенный синей бородкой, как в рупор, говорил в огромное ухо:
– Нет, не ты, а – я.
***
С простыни на стол накапало уже приличную лужицу. Вошел седеющий брюнет. Соседки повернули головы, и одна из них услышала:
– Добрый вечер!
И вторая:
– Бу-бу-бу!
Но обе с одобрением посмотрели на вошедшего и хором ответили:
– А как же!
***
Блестящая черная вода плескалась между парусником и стенкой. Некоторое время постояв у решетки, посмотрев на парусник и на воду, молодой человек вернулся домой. Войдя в комнату, сел на диван и взглядом обежал противоположную стену. Перед стеной на шнурках, как пестрые паруса, висели картины.
Некоторое время он в задумчивости, теребя темную бородку, сидел на диване, потом встал, встряхнулся и постелил.
Последнее, что, засыпая, он слышал, было: "Пушкин на стуле сидеть не умел". Во сне он удивился: ему показалось, что он уже слышал эту фразу. Но он тотчас об этом забыл. Далеко на набережной ночными птицами кричали буксиры, а дальше, на углу Первой линии и Большого проспекта, от ветра бежали по транспаранту легкие волны и желтый свет фонаря высвечивал надпись: "ОСТОРОЖНО – ЛИСТОПАД".
И долго продолжался листопад. Долго тянулась эта ясная теплая осень.
И была она так ясна и тепла до самой середины октября, а потом зарядили дожди.
***
Две соседки сидели на кухне. Рябая сказала:
– Григорий сегодня опять на дежурстве. Опасная работа у них. Я не скажу, опасная!
– Ладно, схожу, – согласилась глухая.
– Так ты не бери что по рубль двадцать семь, а по рубль сорок семь бери – тот хороший.
***
А за окном бесцветные лужи рябили дожди, на проводах висели капли, как лохмотья, и волны, бегущие по часам на фонаре, искажали время.
Из водосточных труб били желтые струи, перебегал улицу и исчезал в гастрономе промокший Петров, и под дождем недвижными черными тенями размылись деревья.
У стенки набережной покачивались буксиры. И буксиры терлись о стенку, скрипели, кадили черным дымом из труб и гудели. Отвернувшись от них, стоял черный Крузенштерн, поблескивая мокрым чугуном, а Нева была серой и холодной. Мрачные прохожие поглядывали иногда из-под тяжелой разбухшей шляпы на желтые окна.
Иногда дождь переставал, и тогда подмораживало. По вечерам на трамвайных остановках вспыхивали огоньки. Сигареты не грели озябшие руки. Мужчины с широкими хмурыми лицами прыгали на подножку, и трамвай грохоча уносился в осеннюю слякоть, в дождь, в бурю и в темноту.
По Тринадцатой линии с холостым лицом проходила ненормальная девка в красном пальто, и казалось, что никогда не начнется зима.
Но зима началась и сразу ударила в окна ветром, сначала без снега, но утром, когда захлопали двери парадных, на улице Гоголя и на Коломенской, в Свечном переулке и в Кустарном, и во всех, без исключения, переулках, на улочках, улицах, даже проспектах лежал свежий и легкий первый снег. И канавки, каналы, речки, речонки, речушки – все стало. Нева превратилась в громадную белую площадь, и граненой изумрудной табакеркой сверкала далекая Кунсткамера на том берегу.
Читать дальше