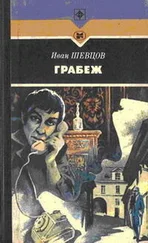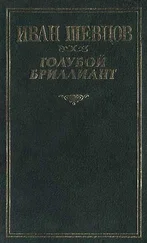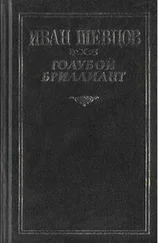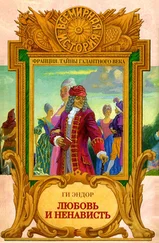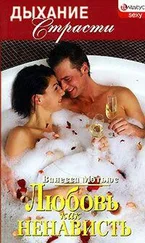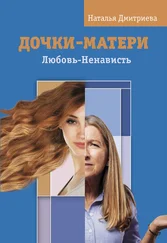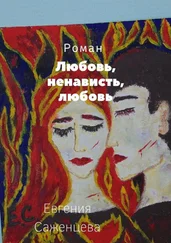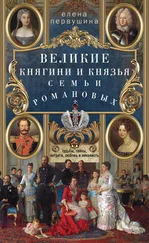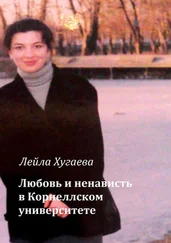— Это не мы говорим, это председатель говорит, — произнес врастяжку и задумчиво Захар. Он сидел насупившись, положа локти на стол и наклонив тяжелую голову. Потом встряхнул шевелюрой, посмотрел на Сигеева пристально и неожиданно предложил: — А знаешь, Игнат Ульянович, о чем я сейчас подумал? Шел бы ты к нам председателем?
Лида, молчавшая весь вечер, с какой-то жадностью, почти восхищением слушавшая неожиданно разговорившеюся мичмана, сказала:
— Лучшего председателя и желать не надо. Идите, Игнат Ульянович. Всем поселком просить будем.
— По этому поводу со мной уже секретарь райкома говорил, — негромко, между прочим сообщил Сигеев.
— И ты?
— Я сказал, подумаю.
— Да чего ж тут еще думать? Надо было сразу соглашаться, — заволновался Захар. — А то пришлют какого-нибудь вроде нашего Новоселищева.
— Сейчас такого не пришлют, — замотал головой мичман. — Сейчас могут сосватать кого-нибудь из ученых, скажем из того же института.
Я подумала об Арии Осафовиче, вспомнив слова Новоселищева, а Захар сокрушенно воскликнул:
— Не дай бог Дубавина. Он же ни черта не смыслит в хозяйстве. Только слова одни. Нет, Игнат Ульянович, ты должен быть у нас председателем.
Сигеев смотрел на меня, — казалось, он спрашивал мое мнение. Но я не спешила с ответом, мне было мало одного взгляда, я хотела слышать его слово. И он не выдержал, спросил:
— Ну а вы, Ирина Дмитриевна, еще не собираетесь бежать в Ленинград?
Нет, совсем не об этом он спрашивал. Во всяком случае, в его вопросе таился более глубокий и более сложный смысл, точно его решение — быть ему в Оленцах или не быть — от меня зависело, от того, «убегу» я в Ленинград или нет. Я ответила:
— Нет, Игнат Ульянович, пока что никуда я бежать не собираюсь отсюда, хотя, как вы знаете, Ленинград — моя родина. Это к нашему с вами разговору о перелетных птицах.
Он дружески и душевно улыбнулся.
Катер мичмана Сигеева покинул Оленцы после полуночи. А я в ту ночь долго не могла уснуть. Я слышала, как за стенкой вполголоса разговаривали Лида с Захаром, — догадывалась, что говорят они о Сигееве, о том, будет он у нас председателем или не будет.
Я тоже думала о Сигееве и как-то невольно для себя сравнивала его с другими встречавшимися на моем пути людьми. Он не был похож ни на Марата, ни на Валерку Панкова и Толю Кузовкина, ни на Дубавина и Новоселищева. Быть может, что-то было в нем общего с Андреем Ясеневым: внутренняя цельность и сила. А вдруг я все выдумываю и сочиняю, и мичман Сигеев, может, совсем не такой, а нечто среднее между Новоселищевым и Дубавиным? От этой глупой мысли становилось жутко, я спешила ее прогнать и в то же время думала: а не лучше ли прогнать мысли о Сигееве, пока не поздно, потому что вдруг придет время, когда будет слишком поздно.
Думая о Сигееве, я, конечно, думала и о себе. Двадцать шесть лет! Что это — начало жизни или конец? Или золотая середина, зрелость, расцвет? Все зависит от себя, все будет так, как ты сама захочешь. А я хочу, чтобы это было начало, большое счастливое начало новой жизни. Я чувствую в себе пробуждение новых, незнакомых мне сил, они мечутся в душе моей, как ветер в тундре; я больше не чувствовала себя маленькой, слабой и беспомощной. Мне было радостно и спокойно. Когда я была еще совсем маленькой, летом отец уходил в далекое плавание, а мать увозила меня в деревню к бабушке. Бабушка на все лето прятала мои ботинки, чтобы я босыми ногами землю топтала и сил от земли набиралась. Наверно, вот теперь и пробудились те самые силы, которых я набралась от земли. Но почему так долго дремали они, почему не пробудились раньше, скажем на юге, когда мне также было трудно?
Я вспомнила — на юге да и в Ленинграде, в годы беззаботной юности, я не знала настоящей жизни. Я увидела ее только здесь, когда стала работать бок о бок с простыми людьми, неодинаковыми, разными. Раньше мне не было дела до других, я не знала, как они живут. А здесь жизнь «других» соприкасалась с моей жизнью; здесь впервые я стала присматриваться к людям, к обыкновенным, простым, иногда грубоватым и не щеголяющим ни модным костюмом, ни звонкой фразой. Но они были очень искренни и откровенны, всегда говорили то, что думали, и меньше всего возились с собственным «я». Они понимали и настоящую дружбу, и радость, и горе, и нужду.
Мне вспомнились некоторые крымские знакомые моего бывшего мужа и его родственников — их пустые споры, мелкие страстишки, нервозность и суматоха без нужды, «деятельность», наполовину показная, прикрытая высокими мотивами и громкими фразами. Как я раньше могла все это не видеть или не замечать? Неужели для моего «пробуждения» нужен был такой сильный толчок — семейная драма и работа на краю земли? Нет, конечно, это случайное совпадение. Я не знала людей, ни хороших, ни плохих, вернее, не различала, судила иногда о них "по одежке".
Читать дальше