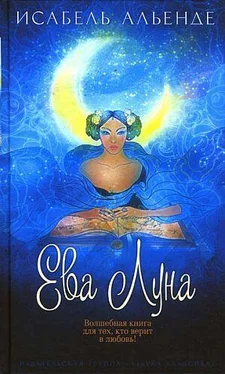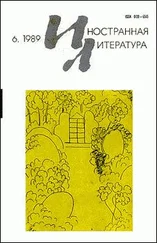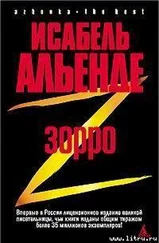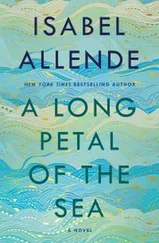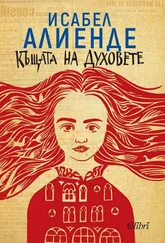Единственным человеком, который никогда не просил меня рассказывать истории, был Уберто Наранхо; по его мнению, ничего глупее, чем тратить время на этакую чушь, и придумать было нельзя. В гости к нам он всегда приходил с кучей денег — скомканные банкноты были рассованы V него по всем карманам. Тратил он их не задумываясь и никогда не пояснял, откуда эти купюры берутся у него в таком количестве; мне он дарил платья с воланами и кружевными воротничками; к ним отлично подходили детского фасона туфельки и сумочки. Все восторженно обсуждали его подарки, уверенные, что именно такие вещи помогут мне дольше оставаться в якобы созданном для меня мире детской невинности, но я отвергала все его подношения с негодованием:
— Ну и куда я это дену? Это ведь даже на испанскую куклу не наденешь. Ты разве не видишь, что я уже не ребенок?
— Не хочу, чтобы ты одевалась как шлюха. Тебя читать учат? — спрашивал он и дико злился, когда в очередной раз выяснялось, что моя грамотность не улучшилась ни на букву.
Мне приходилось защищаться, убеждая его, что с любой другой точки зрения мое просвещение продвигается быстро и интенсивно. Я любила Наранхо всем сердцем и так самоотверженно, как можно любить даже не в юности, а именно в подростковом возрасте; это светлое чувство оставляет в душе человека след на всю жизнь. Тем не менее, несмотря на всю глубину моей любви, он так и не поддался на мои чары: когда я подходила к нему вплотную, он краснел и даже чуть отшатывался, явно стремясь избежать любого физического контакта.
— Оставь ты меня в покое. Что за дурацкие нежности. Лучше учись — станешь, например, медсестрой или учительницей, чем не работа для приличной женщины.
— Ты что, не любишь меня?
— Я о тебе забочусь, и этого достаточно.
Ночью, оставшись одна и обнимая подушку, я молила Бога, чтобы у меня побыстрее выросла грудь и округлились бедра; однако я никогда мысленно не связывала Уберто Наранхо с иллюстрациями из учебных пособий Сеньоры. Я и думать не думала, что вся эта акробатика имеет хоть какое-либо отношение к настоящей любви; мне она казалась чем-то вроде профессии — типа портновского дела или машинописи, то есть ремеслом, овладев которым женщина может заработать на жизнь. Любовь же я представляла себе так, как знала из песен и радиосериалов: вздохи, поцелуи и красивые слова. Я хотела оказаться вместе с Уберто под одним одеялом и заснуть в обнимку с ним, положив голову ему на плечо; дальше этого мои целомудренные фантазии пока что не простирались.
* * *
Мелесио был, пожалуй, единственным достойным артистом в том кабаре, куда его взяли на работу; все остальные участники стихийно сложившейся труппы представляли собой весьма жалкое зрелище; чуть ли не звездами на общем фоне считались участники ансамбля гомосексуалистов, называвшего себя «Голубой балет». Они горланили свои дурацкие песни, выстроившись в затылок друг другу и сравнительно синхронно вскидывая ноги в некоем подобии танца. Сольный номер отводился карлику, все выступление которого сводилось к проделыванию весьма непристойных манипуляций с молочной бутылкой; другим солистом был уже немолодой господин, исполнявший поистине уникальный номер: он выходил на сцену, поворачивался к публике спиной, спускал с задницы штаны и посредством сокращения мышц заднего прохода выдавливал наружу три предварительно засунутых туда бильярдных шара. Публика хохотала и выражала свой восторг аплодисментами и криками. Тишина в зале устанавливалась, лишь когда Мелесио поднимался на эстраду и начинал петь; пока звучал его голос, публика хранила молчание. Его никогда не освистывали, не выкрикивали обидных шуточек, которыми обычно награждали выступление кордебалета, и относились к нему с уважением, редким для посетителей такого рода заведений. Пожалуй, даже самый бесчувственный и примитивно воспринимающий искусство и развлечения слушатель не мог не понять, что присутствует при выступлении настоящего артиста, работающего с душой. На то время, что он находился на сцене варьете, Мелесио превращался в звезду — сверкающую, желанную и недостижимую. Освещенный театральными прожекторами, ощущая кожей восторженные взгляды публики, он блаженствовал, чувствуя, как сбывается его заветная мечта — быть женщиной. По окончании выступления он возвращался в маленькую неопрятную комнатушку, которую ему выделили в качестве гримерной, и приступал к безрадостному процессу обратного превращения в мужчину. Боа из перьев, повешенное на крючок, напоминало скончавшегося страуса; брошенный на стол парик походил на скальп обезглавленной жертвы, а разноцветные стекляшки, изображавшие драгоценности — добыча с потерпевшего крушение пиратского корабля, — со звоном высыпáлись на латунный подносик. Лосьоном Мелесио снимал слой театрального грима, из-под которого тотчас проступали грубая кожа и мужские черты лица. Он переодевался в мужскую одежду, закрывал за собой дверь и, едва оказавшись на улице, впадал в глубокую тоску. Все лучшее, что в нем было, оставалось там, в тесной гримерке и на сцене. Он шел в кафе Негро, садился за самый дальний столик в углу и ужинал в одиночестве, вновь и вновь вспоминая только что пережитые минуты счастья; затем не торопясь возвращался домой. Он специально шел пешком, причем не по самому короткому маршруту. Нужно немного развеяться после спектакля и подышать свежим воздухом, говорил он; дойдя до дому, поднимался к себе, умывался и ложился в кровать, где подолгу ворочался и смотрел в темноту, пока сон все же не смаривал его.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу