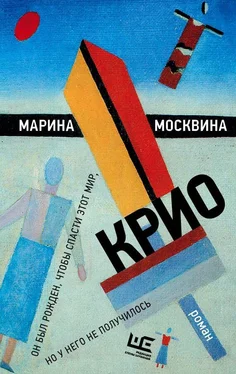Паню заметили, откомандировали в штаб Красной гвардии Бутырского района в медсанчасть на Верхней Масловке. Вскоре штаб переехал в Петровский парк на виллу «Черный лебедь».
Рождество семнадцатого года для Ботика обернулось, пожалуй, самым счастливым в его жизни. Именно в этот год сухого чертополоха, сломанный в нескольких местах, обугленный год он смиренно вернулся в дом родной, сыграл тихую свадьбу, обзавелся семьей.
Я горел такой страстью ненасытной, Ботик говорил, боюсь, я злоупотреблял своими супружескими обязанностями. Я был веселый розовощекий губошлеп, а моя Маруся – кроткий ангел, чистая душа. С тех пор как она вернулась с фронта, в ней не было той безрассудной пылкости, что прежде, это заставляло мое сердце кровоточить, но когда я сжимал ее в своих объятиях, мы с ней буквально гудели, слово под током провода.
Все было внове для меня, я тогда сделал страшное открытие: тело – совсем не то, что мы думаем, вот это тело с ногами, руками и головой – когда мы обнимались, – исчезало или настолько становилось огромным, что мы терялись в огненном пространстве, а в это время входило время иное , из жизни вечной. Тогда в каждом жесте, движении царило до того чудесное согласие, как будто мы изобрели другой способ жить: дышать и не задыхаться.
Маруся осветила, воскресила их осиротевший дом. Ларочка радовалась за своего непутевого циркача, горюя, что не дожил Филя до такого праздника.
В день перед Рождеством Лара срезала ветку вишни и сунула ее в горшок с землей, надеясь, что когда-нибудь она зацветет белыми ясными цветами, а в доме появятся дети.
Весь январь Ботик рыскал, прикидывая, куда бы устроиться по конному делу, но ему всюду отказали – лошадей в городе оставалось меньше половины, если считать с начала войны, конюхам лишние помощники были не нужны. Он даже вздумал податься в шорники, выделывать упряжь и другое кавалерийское снаряжение, уж кто, если не Ботик, до ремешка – до заклепочки знал, как устроена конская сбруя.
В ремесленной управе с низким беленым потолком под тусклой лампадой и портретами почивших в бозе русских царей, за столом, покрытым красным сукном, в окружении цеховых хоругвей, перед железной кассой и выборным ящиком с шарами сидело несколько человек – все как есть бородатые, одетые в засаленные черные сюртуки.
Мафусаилы въедливо расспрашивали и рассматривали кандидатов в кузнецы, горшечники, стекольщики, медники, жестянщики, сапожники, в часовщики, портные, кровельщики, даже в трубочисты, не говоря уже об «аристократах» ювелирах, изучая соискателя до мозга костей и кончиков ногтей.
Ботик не получил одобрения войти в славное братство витебских шорников, хотя красноречиво ответствовал, как чинил сбрую, кроил попоны и настраивал стремена в бытность свою цирковым наездником.
– Этта тебе не на кобылке скакать, этта работать надоть, сидеть на тузе и мездру скоблить, – важно подытожил серединный сюртук, поглаживая рыжую от табака бороду, давая понять Ботику, что его прошение не удовлетворено.
В городе тьма приезжих болталась туда-сюда: тысячи литовских евреев, изгнанных из своих домов, осели в Витебске и на окраинах. Многие отправлялись за океан, в Америку, надеясь на лучшую долю, другие искали работы, хотя бы временной. Среди тех и других были умелые кожевенники, еврейские шапочники, попутно они шили кожаные перчатки.
Но что делать красильщику там, где живут нагие отшельники?
Приходилось кочевать из одного города в другой, с ярмарки на ярмарку, по пригородным деревням, что совсем не улыбалось женатому Ботику. Он будет скитаться, а его Маруся – грустить, одинокая, месяцами у окошка?
Как-то на базарной площади увидел он двух парней, одетых в серые робы и грязные сапоги, в кепках-восьмиклинках с черными козырьками от машинного масла на одинаковых круглых головах. Они тщетно пытались объяснить Бране, что она должна, нет, просто обязана скинуть полцены за фунт подсолнухов, поскольку они – пролетарии, да не простые, а горбатятся на победу русского оружия. И указали в сторону заводика, откуда раздавались уханье, гром железа и паровые свистки.
– Нате выкусите, – задиристо отвечала Брана. – Ишь, наглые попрошайки, раскатали губу! Ну-ка убирайтесь, не мозольте мне глаза!
Те заупрямились, атмосфера накалилась, Ботик подошел поближе на всякий случай. Однако Трофим Микитович Кондратюк, цирюльник и эскулап в одном лице, будучи оплотом мудрости и отцом череды поколений, с утра уже хорошо подгулявший, ласково предложил нахрапистым пролетариям:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу