Я откупориваю шампанское, разливаю в фужеры. Пена скользит у меня между пальцев. Мы тихо чокаемся, освещенные солнцем, заглянувшим в хижину и тут же скрывшимся в туче. Ее черные волосы блестят под паутинкой, свисающей с балки у стены прямо у нас над головой.
— За ваше будущее, Сезар.
— За ваше прошлое.
Это могло бы показаться иронией; но это было лишь уважение, сочувствие, приятие. Внезапно она захлебывается пузырьками и стонет, схватившись за бок.
— Что с вами?
— Мне нельзя смеяться! — укоризненно отвечает она.
— Но я же ничего не сказал!
— Нет, это я... К тому же я думала о чем-то совсем не смешном.
Она впивается ногтями в ладонь, смотрит на землю, кусая губы, чтобы не рассмеяться. Порыв ветра раскачивает цепь висячего замка, заброшенную на вбитый в стену крючок. Я молчу, чтобы не рассмешить ее, и ее лицо мало-помалу снова становится серьезным. Она делает глубокий вдох, глотает слюну и говорит:
— Когда Саддам Хусейн решил восстановить Вавилон... На каждом камне он приказал выбить свое имя.
Всего несколько слов — и реальность мира проникла в хижину грез. Она упомянула главу своего государства так, будто плюнула. Почувствовав напряжение, она решила уточнить, почему так ненавидит его:
— Знаете, Саддам отнюдь не одержимый дьяволом безумец, над которым посмеиваются во Франции, как только он перестает наводить ужас. Он не хочет, чтобы наш народ исчез, он просто хочет гармонично править нами. И еще: я из тех курдов, что родились в Багдаде, — этих не травят газом, с них берут деньги. Кто-то умирает бесплатно, кто-то платит, чтобы жить. Или уехать. Или получить право себя продать. Вы даже не представляете себе, как увеличилась проституция при Саддаме. Это — его проблема; его не надо судить, надо его просто убрать. Только, к сожалению, никто этого не делает, все довольствуются тем, что объявляют ему войну, как в кино.
Слова срываются с ее губ. Это не обвинительное заключение, не заученная речь, не план военных действий. Я вспомнил свое прошлое — она в ответ вспомнила свое: мы делимся своим детством, словно делаем переливание крови.
— То его объявляют угрозой мирового масштаба, то делают из него жертву — это спектакль, в котором постоянно меняется сюжет. Соединенные Штаты периодически называют его врагом человечества номер один, чтобы стимулировать собственную промышленность, работу биржи, сплотить и отвлечь внимание. За это они оставляют его во главе страны, обескровленной эмбарго, страны, где все застыло, ничего не происходит, нечего есть и даже нет книг; страны, которая была прекрасной и богатой и где скоро останутся одни инженеры и военные, которым не выдают визы, горстка фанатиков, бездельников, нищих и шлюх!
Ее речь звучит прерывисто из-за слез, которые текут по ее щекам; руки отбивают ритм, ударяя по коленям. Она возмущена и осознает собственную беспомощность. Ей всего двадцать лет, она не может ничего сделать, а эмиграция оказалась бессмысленной. Я разрываюсь между своей нежностью и ее отчаянием, ее предвидениями, ее выбором. Обнимаю ее и привлекаю к себе.
— Нет, нет, только не вы! — кричит она, резко вскакивая.
Ударяется головой о балку, замирает и падает мне на руки.
— Сезар!
Она обмякла, глаза закрыты, голова опущена. Я укладываю ее на землю. Из носа у нее течет струйка крови. Я в испуге похлестываю ее по щекам, щупаю пульс, прикладываю ухо к груди. Сердце бьется нормально — как мне кажется, — но я ведь ничего в этом не смыслю. Если вдруг у нее черепно-мозговая травма, а я понесу ее в машину, то может случиться кровоизлияние в мозг.
Я срываю с пояса мобильник, нажимаю на клавиши, попадая по нужным через раз. Дисплей гаснет до того, как я заканчиваю вводить ПИН. Я не зарядил аккумулятор. Я выбегаю из хижины, зову на помощь. С деревьев поднимаются птицы. Я кричу во всю глотку. Никто не отвечает. Ни малейшего шороха. Утром шел дождь, и никому даже в голову не пришло пойти гулять в лес. Я тщетно пытаюсь уловить хоть какие-то звуки. Тогда я бегу на вершину холма, чтобы разглядеть оттуда извилистую тропу и велосипедную дорожку. Никого. Я кричу, что есть сил, озираясь по сторонам, но отзывается только эхо.
Я возвращаюсь к хижине, осматриваю ее. Пальцы нащупывают огромную шишку. Кровь из носа больше не течет, дыхание ровное, но она все еще без сознания. Я щиплю ее, царапаю, щекочу — никакой реакции. Она в коме. Я наклоняюсь к ее уху, шепчу ласковые слова — вдруг она меня слышит? Ничего, все хорошо, я не желаю ей зла, она отделается простой шишкой, я сейчас поеду за врачом, вернусь через пять минут, здесь, в моем детском убежище ей ничего не грозит.
Читать дальше




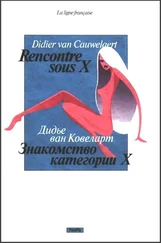
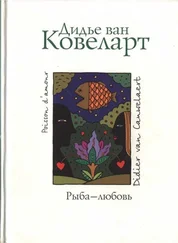




![Дидье Ковелер - Время остановится в 12:05 [litres]](/books/396823/dide-koveler-vremya-ostanovitsya-v-12-05-litres-thumb.webp)
