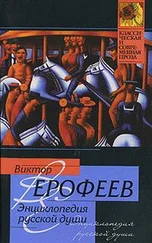— Ну, и как они? — ахала армянка. — Из драгоценного камня рубина?
— Не знаю, — отвечал я. — Но они острые, и я порезал об них пальцы.
— Говорят, у вас школьники ходят в мундирах? — спрашивала армянка.
— Да, — отвечал я. — У каждого на боку кортик. У нас в стране у всех есть мундиры: у рабочих, крестьян, у моего папы тоже.
Меня распирало от смеси вранья и жизненной правды, мы забалтывались. Наконец армянка спохватывалась, грустными армянскими глазами, под которыми висели большие черные мешки, смотрела на свои часики:
— Et bien. Nous allons, vous allez, ils?.. [14] Хорошо. Мы идем, вы идете, они?.. ( фр. )
Но уже было поздно, время урока заканчивалось. Легкой походкой в широком платье вбегала в комнату мама. Из-за вранья я выучил только «коксинель».
— Она от тебя в восторге, — говорила мама про армянку.
Неудивительно: армянке было что рассказать эмигрантской общине.
Я наговаривал на себя черт знает что. Меня заносило. Я говорил бабушке, что выпил на спор целую чернильницу чернил и не отравился; что я подрался с Орловым и сломал ему руку, и теперь он — однорукий; что у меня есть свой дипломатический паспорт и парижские полицейские мне отдают честь; что у меня есть золотые часы, которые я нашел на улице; что папа на самом деле важнее посла Виноградова. Я рассказывал бабушке: мне в парижской школе задают такие задания, что я давно уже не сплю по ночам; на физкультуре я держал на плечах пять девочек, как акробат в цирке. Она ахала, охала, волновалась, переживала. Иногда не выдерживала: вступалась за меня перед родителями. Те приходили в ужас, начинали охотиться за моим враньем. Мама с папой были плохими собеседниками. Папе я вообще старался не врать, а мама быстро разоблачала меня, сердилась и называла бароном Мюнхгаузеном. Она брала меня за ухо и говорила в таких случаях:
— За ушко да на солнышко.
Было противно. Я не помню, когда я научился врать. Кажется, я родился таким. Я любил, когда мир вибрировал от моих фантазий. Вранье расшатало мое представление о мире. Я увидел, что мир прогибается под моим враньем, и перестал верить в его прочность. Я считал, что без моих историй мир оказывается скучным, плоским — полной ерундой. Я был главным героем своего вранья. Из вранья родилось мое отношение к слову. Мне все человеческое слышалось по-другому. Например, в басне Крылова про Стрекозу и Муравья я слышал (еще в детской прогулочной группе на Тверском бульваре):
Злой тоской у драчуна
К Муравью идет она.
И дальше: «Не оставь меня, кумилый…» — слышал я. Мне казалось, что «кумилый» — самое нежное слово на свете. Мне нравился драчун больше Муравья и Стрекозы. Я до сих пор отдаю предпочтение драчуну и кумилому . Уже в школе мне нравилось название пьесы Грибоедова «Горе, о, туман!». Когда я узнал правильное название, оно огорчило меня своей банальностью.
<>
Больше всего на свете я не люблю женское белье и шпионов. С женским кружевным бельем у меня большие проблемы. В ту пору, когда моя бабушка, решив меня утеплить, посылала меня в первый класс с самодельным белым лифчиком под школьной формой, с огромными пуговицами и резинками, поддерживающими мои коричневые чулочки, и я стоял по утрам, в темную демисезонную пору, перед зеркалом этаким юным московским трансвеститом с голой пиписькой между женскими аксессуарами, моя спонтанная мужественность взбунтовалась. Я ходил с лифчиком, как идет свинья на заклание. Я даже колготки сейчас у женщин ненавижу. Женщин с фантазиями «Дикой орхидеи» я не признаю. Мне и канкан в панталончиках отвратителен. Я ненавижу самую идею женских лифчиков, перехватывающих груди и застегивающихся на спине на специальные мерзкие крючочки. Я не признаю ни физкультурные бюстгальтеры Америки, объявившие войну соскам как в жизни, так и в голливудских фильмах, ни бельевые выкрутасы Старого Света. Когда женщина оказывается в белье, я отворачиваюсь. Это — не мое. Скажите спасибо моей бабушке — с половым инстинктом не шутят. Я люблю женщин без всякого белья, со свободными сиськами.
Точно так же я не люблю шпионов. Когда одна моя сладкая московская поклонница сказала мне, что она видит меня только в двух ипостасях: либо писателем, либо великим разведчиком, я сказал: «Дорогая, не надевай на меня белый лифчик с резинками». Я не люблю даже ироническую ипостась Джеймса Бонда. Его враги — мои враги, но все равно, этот английский юмор вызывает во мне блевотный инстинкт. Шпион рожден врать и насиловать. Я не люблю мужчин, которые делают свою работу с помощью силовой спекуляции. Меня от них воротит. В сущности, я не против возмездия. Вернувшись к Эренбургу, признаюсь, что картина евреев, отправляющих немцев в конце войны в газовые камеры в равной пропорции 6 000 000 : 6 000 000 и затем выпускающих их через трубы еврейского крематория под бравурные еврейские мелодии, мне занятна. Вот это — еврейский юмор. Красная Армия, насилующая каждую немку, мне тоже понятна и даже приятна. Но Джеймс Бонд — не мой герой. И что я получил после того, как все расставил по местам?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу