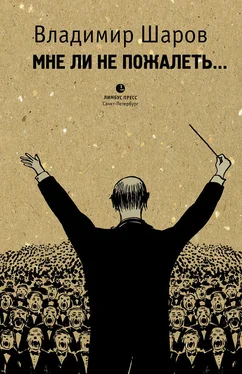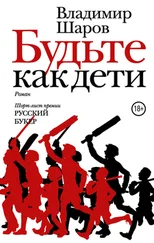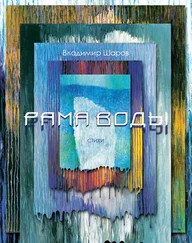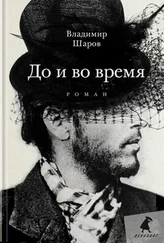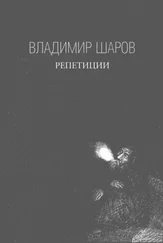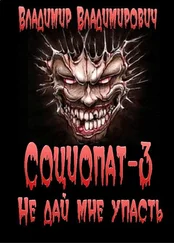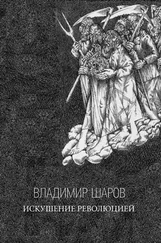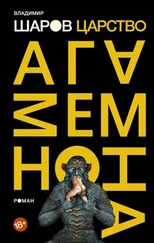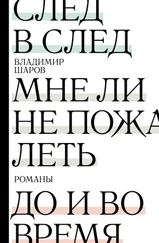Но в следующем приделе храма он вновь делал все, чтобы их утишить и успокоить. На место хаоса и разрухи поставить ясный, спокойный мир, будто это и вправду было возможно. Он возвращал многое из того, от чего они сами давно отказались. Словно провоцируя их, он как будто пытался возродить тот прежний мир, ту их прежнюю жизнь, которая была столь греховна, что Господь из-за нее, из-за того, что они ею жили, приговорил их к гибели. В этом духе им расписаны интерьеры десятков храмов. По тому, насколько тщательно и любовно Лептагов выписывал каждую деталь, было видно, что он буквально наслаждался их грехами, он звал и манил их назад, и тут же, стоило им ему поверить, просто по привычке пойти за ним, вся эта прелесть, вся эта красота и изящество искажались, превращались в нечто мерзкое и отвратительное, ему, как прежде – в жизни, снова удалось их соблазнить и оставить ни с чем. А дальше, уже без всякого участия Лептагова, этот храм в мгновение ока наполнялся безумием, чисто смертным безумием их покаяния; голосами, обращенными к Богу, они стонали, рыдали, вопияли, и казалось, что в этом даже нет веры – один только ужас.
Церкви, что он ставил, никаких названий, естественно, не имели: это был Храм, просто Храм, обращенный к Богу. Всегда единственный Храм. Но я, ведя записи, очень скоро стал их для себя именовать по тому святому, чья память в день окончания стройки отмечалась по Святцам. Эти названия были мне нужны как подпорки для памяти и для донесений в НКВД. Без них упомнить и разобраться в том, что он сделал за сезон спевок, было бы совершенно невозможно. Вот несколько фрагментов из тех донесений:
«14 июня 1931 г. Церковь св. Валерьяна – уныла и монотонна. Видно, что она строилась из нечистоты, греха, а получился храм, где служат, в который можно войти, встать в каком-нибудь приделе на колени, помолиться, поставить свечку и тихо уйти. Его всегда забавляла народная вера, что голоса и грехи соразмерны. Он с этим нередко играл, в частности, когда расписывал эту церковь. На фресках в ней сильные, мощные голоса признаются в таких грехах, каких и басом-то не пропоешь. Этот прием чрезвычайно расширил палитру звучания хора, еще раз по-новому высветил грех. Совсем мелкий, он вдруг вырастал почти до вселенского масштаба, делалось ясно, насколько он велик в своей гнусности, грех же больший вдруг становился жалок, убог, лишенный и размаха, удали, и силы, он был достоин только презрения.
8 июля 1931 г. Церковь преподобномученицы Февронии – удивительно изящная, жизнерадостная и нарядная. Особенно затейлив и декоративен фасад храма. Хористам очень нравится так петь, да и сам Лептагов доволен. Все же в некоторых партиях нет-нет да и проскальзывает страх, будет ли это покаяние принято Господом.
23 июля 1931 г. Церковь преп. Антония Печерского. Проста, аскетична, временами даже сурова. Голоса звучат торжественно. Кажется, люди, наконец представшие перед Богом, и не могут петь иначе.
31 июля 1933 г. Церковь муч. Иакинфа. Хор сливается и с Волгой, и с заволжскими лесами, лугами, в то же время бесспорно и спокойно главенствуя над ними. Уверенно подчинив себе окружающее пространство, церковь почти отвесно взметнулась ввысь. Во всем этом огромная мощь, но есть в ней и легкость, хор в итоге звучит не тяжело, наоборот, он полон любви, ласки и снисхождения.
25 августа 1933 г. Церковь муч. Фотия. Хор сохранил все пластические и пространственные ритмы крестовокупольного храма. Есть почти мистическое ощущение одновременного движения вверх, от людей к Богу, и от Бога вниз, к людям, сначала к куполу, а от купола – к центральной точке. Там – начало, вернее, конец библейской лестницы, связывающей небо и землю.
6 июня 1935 г. Церковь преп. Симеона. Ставя ее, Лептагов требовал как можно больше напряжения в том, как хор шел от голоса к голосу, и сам он, строя композицию, стремился к предельной динамике, особенно в венчающей, наиболее приближенной к Богу части. Идущие же по стенам фрески, наоборот, повествовательны, каждый исповедуется не спеша, медленно и обстоятельно.
13 июня 1935 г. Церковь муч. Ермия. Маленькая, скромная до убожества часовенка. Неприметная, будто вкопанная в землю банька. Поет ее хор во много тысяч голосов, и молитва каждого хорошо различима. Как это удалось Лептагову, понять трудно».
Список этот легко длить и длить. Но какие бы храмы Лептагов ни строил – готические соборы, то ли устремленные ввысь, то ли из последних сил тянущиеся и тянущиеся к Богу, или церкви, словно прячущиеся от Господа, как пехота, припадающие к земле, использующие любую ложбинку, чтобы схорониться от карающего меча, как та же пехота, зарывающиеся в землю, уходящие в катакомбы, будто снова вернулись времена первых христиан, – из каждого возносилась молитва Господу. А ведь это были те годы, когда храмы на Руси лишь разрушали. Причем как Лептагов их ни разубеждал, многие из его хористов были самыми активными участниками этих акций. Они свято верили, что у единого Бога и храм может быть только один, и, если люди хотят, чтобы Господь их услышал, он, этот храм, должен быть построен, возведен от фундамента до креста, венчающего купол, из человеческих исповеданий, а не походить на прежние – рукотворные, будто идолы. Они взрывали старые церкви и с не меньшей страстью возводили свои, новые, так же не ведая сомнений, как некогда иконоборцы, рубившие образа святых.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу