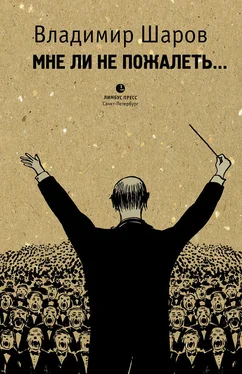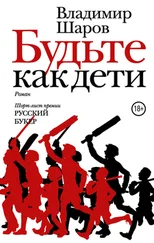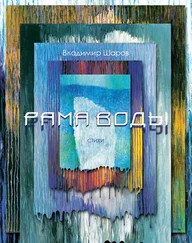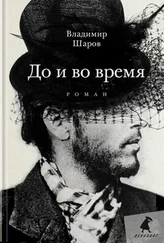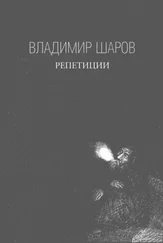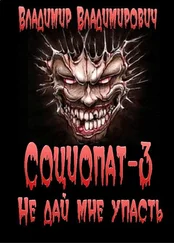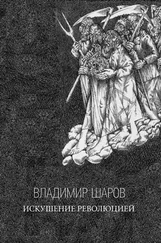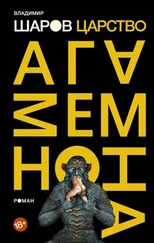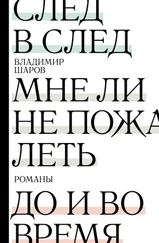В сущности, каждый из его исполнителей приходил к нему с уже законченной и завершенной партией – это была его жизнь, такая, какой он ее прожил, это был его собственный и ничей другой грех и собственное его раскаяние. Все это не нуждалось ни в добавлениях, ни в исправлениях. Это была та высшая самостоятельность, какой ее признавал за человеком Господь, говоривший, что любая живая душа для Него больше целого мира. Сама по себе больше. Они все это знали и тем не менее настаивали, что он может и должен сложить из их жизней, из их молитв и покаяний как бы Третий Храм взамен первых двух, что разрушили ассирийцы и римляне. Они требовали, настаивали, что это необходимо, он же при первых затруднениях (особенно так было в начальные месяцы спевок) принимался думать, что это совершенно немыслимая, ненужная, возможно, даже кощунственная работа.
Это была во всех отношениях странная стройка, и немудрено, что прошло немало времени, прежде чем он сумел к ней приноровиться, обрел наконец свободу. Главным здесь было то, что однажды он вдруг понял, что одни и те же арии можно использовать для строительства фундамента и цоколя храма, а можно возвести из них колонны и арки или же держащий центральный купол барабан. Он понял, что каждая из них годится: какая для украшения свода, какая для фресок, мозаик (последние он особенно любил из-за того света, которого было так много в смальте) или для изготовления иконостаса. Все это было в пределах той власти, что они дали ему над собой, и он мог идти этим путем, ничего не боясь. Он возводил и рушил, строил и ломал иногда по нескольку раз за день; на взгляд со стороны он, наверное, казался человеком грубым, жестоким и безнравственным, но хор – и в этом нет сомнения – смотрел на то, что он делал, иначе. Особый смысл все это приобрело в двадцатые годы.
Некогда один испанский раввин-кабалист во время аутодафе, на котором жгли одну за другой написанные им книги, стоял вместе с учениками рядом с костром, и когда кто-то из них спросил его, как он может быть так спокоен, когда гибнет труд всей его жизни, сказал ученику: «Рукописи не горят, горит бумага, а буквы улетают и возвращаются к Богу». И здесь – его хористы были убеждены, что он, в отличие от того, что тогда творилось в России, единственный не рушил храмы, а лишь строил их, и они, законченные и завершенные, улетали, возвращались к Богу, – он же шел дальше, ставя новые и новые.
Это мнение, или даже вера в него, в его работу, конечно, была для Лептагова очень лестной и, насколько я понимаю, он знал о ней, но тем не менее он очень долго чувствовал себя несвободным, связанным; часто то, что он делал, представлялось ему просто складыванием, собиранием конструктора.
Доля правды в этом, наверное, была: в тех храмах, которые он возводил, нередко можно уловить мотивы той или иной архитектуры, иногда даже сходство с каким-нибудь конкретным храмом. Бывало, он весь сезон строил совершенно подчеркнуто в рамках устоявшейся традиции, лишь незначительно меняя пропорции и внутреннее пространство. Он, без сомнения, любил рубленные из дерева поморские церквушки, и близость Кимр к местам, где их строили, то, что город находился как раз на дороге из Москвы на север, влияло на него. Здесь было много воды и нетрудно было найти ландшафт, где такие храмы смотрелись бы очень хорошо. Еще чаще и тоже из-за обилия вокруг воды он строил в духе Новгородской школы, причем иногда по нескольку раз за сезон без зазора рушил одну церковь и тут же возводил другую, будто все никак не мог выбрать. Тяжелые, массивные новгородские церкви, снаружи отделанные подчеркнуто бедно, они были очень хороши здесь, рядом с Волгой.
Но несмотря на это его пристрастие к чисто русским архитектурным формам, я никогда бы не решился назвать его русским художником, скорее уж я готов был с ним согласиться, когда он говорил про себя, что вообще не художник. Он совсем не дорожил тем, что строил, мог возвести совершенно гениальный храм и тут же без всякого сожаления его разобрать. Как строитель он был неутомим: человек с исключительной фантазией, он словно не мог насытиться и сам пожирал то, что делал. Обстоятельства заставили его сократить, сузить то поле, где он был свободен, он словно ушел от писательства, где всё во власти автора, к театру, театральной режиссуре, где режиссер, оставаясь диктатором, бесконечно зависим и от пьесы, и от актеров, и от музыки, и от художника. Это поле было для него мало, ему было тесно, не хватало места и света, он не успевал на нем устать, выложиться и был вынужден строить и строить.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу