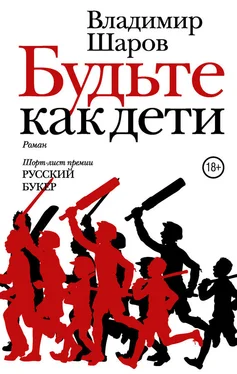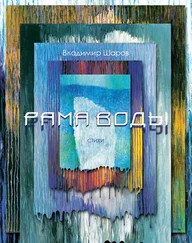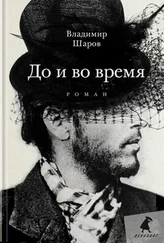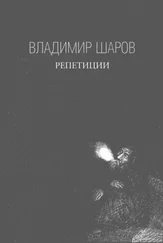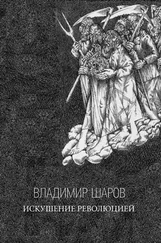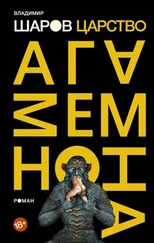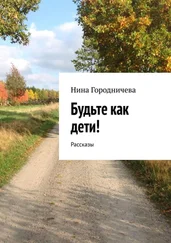Примерно лет с пятнадцати она начала всё более напряженно интересоваться ушедшими в скит затворниками и отшельниками, однажды даже призналась матери, что хочет, чтобы какой-нибудь старец начал ею руководить. Очень много дала Дусе поездка с крестной в Оптину, когда ее брак с Петром Игреневым был уже решен. В обители она прожила полтора месяца, через день ходила исповедоваться к очень уважаемому монаху старцу Пимену.
Вещи, которые он ей сказал, она помнила потом до конца жизни, повторяла их и нам. Об исповеди: никогда не надо стыдиться открывать свои грехи; чем безжалостнее каешься, обличаешь себя, тем больше будет облегчение. О том же – и о жизни: всю ее он считал беспрерывным круговоротом душ: одни спускаются вниз к вновь рожденным, а другие – только что скончавшиеся – поднимаются к престолу Господню. И если грехи человека были не слишком тяжелы, обновленная, светлая, забывшая о прежних страданиях, его душа однажды окажется в Раю. В другой раз Пимен сказал, что жизнь, вся она, есть уход от Господа чистыми и возвращение к нему грязными, черными от ненависти, зла и новое очищение в Нем. Это большое спасение, а малое – исповеди с их раскаянием и милостью.
От него же Дуся знала, что нужен пастырь, иначе покаяние может не успеть. Без руководителя никогда нельзя точно знать, идешь ли верным путем или уклоняешься туда, где опасно, томительно для духа. К последней теме он возвращался при каждой их встрече. Говорил, что у духовного отца много духовных дочерей, а старец он для одной-двух. Тут-то и тайна – вокруг да около можно ходить годами, а проникнешь в нее или нет, бог весть. Однажды она начала допытываться, как узнать, есть ли хоть какой-нибудь знак, и он, улыбнувшись, стал успокаивать, сказал, что если Бог сподобит ее получить старца, она, где бы ни была и что бы ни делала, будет чувствовать его рядом с собой.
От Пимена же она впервые узнала, что в послушании, если следовать духовнику – греха ни в чем нет, а если уклоняться, действовать самочинно, наоборот, один грех, и что литургия старца – океан милости. Во время нее у Господа можно вымолить всё. Однако как Дуся ни просила взять ее под свою опеку, Пимен отказался, да это было и правильно. Навещать Оптину удавалось нечасто, хорошо, если пару раз в год. Правда, каждую неделю она старцу обязательно писала.
Связь прервалась только в конце семнадцатого года. Ее письма до Оптиной доходили редко, почта работала из рук вон плохо, но главное – осенью Пимен тяжело заболел и, по словам келейника, отвечать Дусе ему сделалось трудно. Тем не менее, оказавшись на распутье, – дело было спустя семь лет – она снова к нему поехала, и старец помог.
В семье Дусю очень любили, но считали пустышкой. Равно смотрели и на ее поездки в Оптину и, так совпало, на начавшееся тогда же, в семнадцать лет, увлечение театром. В тринадцатом году, уже после венчания, она переехала во Псков, где муж получил должность чиновника по особым поручениям при губернаторе. Недалеко от города, по правому берегу реки Великой у Игреневых было большое имение, а по соседству снимал на лето дачу Слипавский, известный театральный режиссер. Они познакомились, подружились, и Дусе удалось уговорить Слипавского помочь им с постановкой «Короля Лира». Сама она играла Корделию.
Ничего особенного в Дусе не было: хорошенькая, довольно изящная, но после нескольких репетиций режиссер вдруг сказал ее свекрови, тоже страстной театралке, что, став профессиональной актрисой, невестка многого бы добилась. В ней редкая способность отдавать себя другому человеку, дар доверия и несопротивления, ее можно мять, как воск, а потом лепить что вздумается. Это отсутствие страха перед чужими руками, даже сочувствие им – вещь очень и очень нечастая, с ней ты, как лунатик, можешь идти по карнизу и не бояться.
Кстати, свекровь, старая княгиня Игренева, была первой, кто предсказал Дусе, что однажды она примет постриг. Разговор зашел зимой восемнадцатого года. Они тогда жили в семидесяти верстах от их бывшего имения в деревне Густинино, на границе Псковской губернии и Эстляндского края. Дом был довольно большой – два соединенных вместе пятистенка, и благодаря своей величине, а главное, конечно, хозяйке, быстро сделался странноприимным. Здесь останавливались и те, кто бежал из Москвы, Петрограда на запад, в Эстонию, Латвию, и богомольцы, направляющиеся в Печерский монастырь. Потом, в эмиграции, его многие помянут добром.
После перенесенного осенью тифа Игренева почти обезножила и вставала с трудом. Рядом Дуся возилась с детьми, стирала, убирала, а княгиня, лежа в закутке рядом с печкой, в театральный бинокль следила за горшком с кашей, которая всё не подходила. Печь была плохая, без толку жгла кучу дров, пшенка варилась в ней по два часа. Игренева попала во псковское захолустье совсем молоденькой, и без Петербурга, без тамошних театров и балов, главное же, без подруг поначалу тосковала, частенько даже плакала. К счастью, Господь наделил ее деятельным, живым нравом, и скоро она нашла себе занятие: стала ставить любительские спектакли, по большей части из германской и скандинавской истории, которой увлекался еще ее отец, потомок тевтонского рыцаря. На сцене под музыку Вагнера на кострах сгорали погребальные ладьи, ветер развеивал пепел, и в наплывающих с севера туманах исчезало, тонуло всё и вся, так что никто уже не знал, куда плыть, где берег, а где открытое море.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу