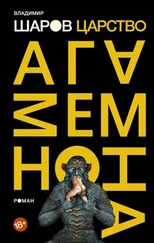Кроме доносов на интернат скопом, был еще и десяток персональных – на некоего Ищенко, учителя истории, который в восьмидесятые годы первый дал на Лестикова показания. На общем фоне они выглядели невинно. Ищенко обвинялся в том, что, нарушая методику, употребляет на уроках множество слов, которые не знают и ученики обычных школ. Методика была светом в окошке. Помню, что, очень довольный собой, я решил, что влеплю неизвестной жертве за нее выговор и с чистой совестью рапортую по начальству, что меры приняты. Больше же, как советовал приятель, никого трогать не стану. Впрочем, в итоге не пострадал вообще никто.
Помню свое первое посещение интерната. Парты в классах были маленькие и неудобные, выбрав, чтобы никому не мешать, угловую, на самой «камчатке», я несколько минут искал, куда бы деть собственные длинные ноги, наконец нашел, вынул блокнот, ручку и для страховки включил диктофон. Поначалу я думал лишь о доносах Лестикова и только на второй неделе вдруг стал понимать, что то, что слышу в классе, – законная часть истории, которая многим людям вокруг меня некогда поломала жизнь.
Уроки Ищенко с рассказами о последних четырех годах жизни Ленина я решил здесь привести и по этой причине, и потому, что нечто схожее за тридцать лет до него слышал в совсем другом месте и от совсем другого человека – ныне покойного Фарабина.
Наверное, необходимо сказать еще две вещи. В классе, в котором я вел записи, как обычно и бывает в специнтернатах, были дети разных возрастов и очень разного уровня. Но о том, понимают ли его (Лестиков не врал), Ищенко вряд ли задумывался. Он, по-моему, не сомневался, что его ученикам достаточно намека, чтобы отделить правду от лжи. А кроме правды, никому ничего не нужно. И второе: в ищенковских рассказах – последнее я сейчас вижу четко – два Ленина. Один – медленно, мучительно умирающий, прощающийся со своей прошлой жизнью. Но в нем, в этом безнадежно больном старике, прямо на наших глазах нарождается другой Ленин – сильный, упорный, готовый к борьбе.
Ищенко, несомненно, был учитель от Бога. Так и слышу, как он, начиная каждый урок, обращается к воспитанникам: «Вы, ущербные, вы, голодные и холодные, брошенные и убогие, никем не любимые и никому не нужные, знайте одно – Ленин шел именно к вам».
Ленин начала двадцатых, говорил Ищенко, был мало на себя похож и не только из-за болезни. Одинокий, всеми оставленный, он яснее и яснее понимает, что в свою очередь так же должен поступить с пролетариатом. Преданный, он сам должен сделаться предателем. Еще плохо умея говорить с Богом, вконец запутавшись, он мешает мольбы и требования, предъявляет Господу ультиматумы и тут же заявляет, что капитулировал, на всё безоговорочно согласен. Бывали дни, когда он часами, будто заведенный, мучая себя и Господа, допытывался: неужели дорогу к Нему нельзя было проложить по-другому, не через измену?
К Господу нет пути без веры, без надежды, без любви; в Ленине же поначалу не было ни первого, ни второго, ни третьего – лишь политический нюх, который прежде ни разу его не подводил. Может быть, из-за того, что Ленину не хватало веры, Господь следил за ним ревнивее, чем за другими. Но сказать, что на правильный путь его загоняли палкой, неверно. Он хотел повернуть, очень хотел, но как же ему было трудно! Вот, кажется, на старой дороге поставлен крест, и вдруг опять всё возвращается. То, над чем вчера он отчаянно глумился, сегодня не просто оправдывается – с блеском настоящего полемиста поднимается на щит. И уже не поймешь, с кем он теперь, куда идет.
Надо признать, что в двадцатые годы, хоть и без газет, без книг, без диспутов с оппонентами, политическое развитие Ленина продолжалось. Изменялись его взгляды на революцию, на коммунизм. Прежний марксизм с его всех и вся спасающим пролетариатом в нем умирает. Ленин начинает понимать, что зря рассчитывал на рабочий класс. Тот весь в прошлом, и оно как сетями тянет, тянет его назад. Строить с рабочими свободный от зла и греха мир – мартышкин труд.
Вроде бы здесь всё ясно, но день спустя – новая рокировка. Ленин, споря с Богом, самым трогательным, самым решительным образом пытается защитить, выгородить перед Ним тех, кого вел раньше. Говорит, пусть человек труда так черен, грешен, что его не отбелишь никакой содой. Пусть навскидку, какого босяка ни возьми, он вор и лжец, горький пьяница и блудник. А беды, что ему выпали, сделали его еще хуже. Мстя миру, он срывает зло на слабых. Смертным боем бьет жену, детей. И тут же спрашивает Христа, не Он ли говорил, «что… на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии» (Лука 15:7). Подступает, требует у Бога ответа, хотя давно знает, что люмпен не то что других – не спасет и одного себя.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу