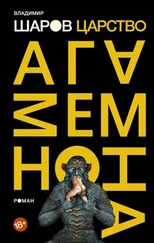Часа два одну за другой вытаскивал картины на свет Божий, потом, перенеся их метров за двести на южную сторону острова, ставил, прислоняя к деревьям и разогретым камням. Песок здесь был уже сухой. В итоге к полудню само собой составилось нечто вроде персональной выставки художника Сергея Игренева. Многие полотна были по-настоящему сильные, и всё вместе: холсты, большие старые сосны, ели, солнце, песок, камни – оказалось друг для друга хорошими соседями, и я знал, что то, что получилось, запомню.
Я смотрел Сережины работы, иногда возвращался, снова шел дальше. Ближе к вечеру солнце, прежде бывшее за спиной, встало сбоку. Раньше оно мне не мешало, но перед Сережиной «Женщиной с варевом» – я звал ее для себя Иттэ – не смог с ходу приноровиться, долго и неудачно подбирал место. Ища правильную точку, то отступал, то приближался к холсту, так и этак наклонял голову, пока свет, отразившись от лака, будто от зеркала, не ударил прямо в глаза.
От неожиданности я прищурился, и тут же всё, что было на картине – костер, женщина, лежащие вповалку бомжи – исчезло, вместо них и вправду явился Иттэ. Отличный писанный маслом портрет старого селькупа, за которым прошлым летом, сидя в его балке, записывал почти неделю. Сразу же меня осенило, что и остальные Сережины работы – суть портреты людей, память о коих мы – каждый на свой лад – пытались сохранить. Я записывал предания и песни, сказки и истории жизни, а Сережа прятал их самих, словно в кокон, завернув в невинные городские пейзажи.
Он скрывал их на свалках, на пустырях возле бараков и трущоб, в которых они рождались, умирали, которые привыкли считать своим домом. Недалеко была их настоящая родина – бескрайние ягелевые болота. Там предки самоедов, поколение за поколением, веками пасли тысячные стада оленей. Теперь домом они звали сараи и вагончики, балки и времянки; и, как бы страшно ни смотрелась нынешняя жизнь, всё это давало им кров и приют, кормило и укрывало от холода.
Чаще других Сережа рисовал ненцев, которыми его партия занималась с пятидесятого года, со многими из них он был дружен, успел близко сойтись. Но писал он и селькупов, и долган, и манси – все они, не умея приспособиться к чужим правилам и обычаям, год за годом спивались и умирали, уходили, никого ни в чем не виня. Конечно, Сереже было не под силу вернуть наши долги: пока не ушел сам, он просто их поминал. Работы были естественные и умиротворенные; те, кого он рисовал, словно плод в материнской утробе, покоились в них, ничего вокруг не нарушая.
Сейчас я думаю, что и северные картины предназначались для храма. Церковь, которую Сережа должен был расписывать, была маленькая, приземистая, и вот, будто раздвигая пространство, прямо за яслями с Христом начиналась страна народа-ребенка, того народа, который первый узнал о Спасителе, как и они, – младенце, за тысячи километров послал своих волхвов поклониться Ему. На нескольких его полотнах стелилось болото с парой чумов и пасущимися невдалеке оленями. Медленная широкая река огибала мыс с блеклым березняком на взгорке, петляла между бараками занесенная снегом дорога.
Балки и времянки никому не мешали, земля и с ними была пустынна, просторна, люди, такие же невинные, как при начале времен, еще не успели от нее отделиться. Кроткие, тихие, они будто намеренно прятались, сливались с пейзажем и, только когда пламя керосиновой лампы или свет солнца падал на лица, смущенно, нерешительно выступали из тени. Сережа рисовал их пьяными и безмятежными, они или спали, приткнувшись друг к другу, или брели, сами не зная куда. Безгрешным, им хватало стакана водки, чтобы сподобиться рая. Рай был везде, где были они, потому что для детей он и был создан.
На его картинах с Христом Земля обетованная была жесткая и каменистая, уже отчаявшаяся впитать кровь бесконечных войн и усобиц. Здешние райские кущи зимой, будто пухом, были укутаны снегом, а летом, согретые солнечным теплом, даже тут, в городе, покрыты мягким мхом и травами. Почва была текуча и неспешна, не было ни преград, ни границы, и земля, и люди, и звери – всё всему было родней и перетекало, легко заполняя друг друга. На Сережиных портретах носом делалась то согнутая в локте рука, то откляченная попа склонившейся над костром женщины, покореженное ветром дерево и видный издали неровный след грузовика. Глазами могли быть торчащие из-под одеял головы двух больных: в больнице вымораживали блох, клопов, тараканов, а пока суть да дело, койки вынесли во двор и поставили на снег под фонарь; бытовки, по обеим сторонам дороги выступающие из леса; освещенные изнутри окна кирпичного барака.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу