— Ну, ты у нас знатная повитуха, как я погляжу!
— Кто бы сомневался! — усмехнулся в ответ Скалли, и они двинулись назад к своему плоту.
Когда вышел и послед, Горемыка завернула младенца в одеяло и несколько часов спала, просыпаясь и снова засыпая. На закате проснулась от детского плача, стала мять груди, и наконец из одной молоко пошло. Хотя всю жизнь ее спасали мужчины — Капитан, сыновья пильщика, Хозяин, кузнец, а теперь Уилл и Скалли, — на сей раз у нее было стойкое чувство, что она кое-что важное сделала сама. Отсутствие Близняшки как-то даже не ощущалось — настолько она сосредоточилась на дочери. Внезапно ей открылось, как дочку звать. И открылось, как звать ее самое.
Прошел день, потом еще один. Свое недовольство Горемыкой и беспокойство за Флоренс Лина скрывала под маской невозмутимости. Хозяйке про новорожденную не обмолвилась ни словом, но послала за Библией и запретила кому-либо заходить в недостроенный дом. В какой-то момент Горемыка, благодаря новому положению матери набравшаяся храбрости, осмелилась сказать Хозяйке: хорошо, что кузнец пришел помочь вам, когда вы умирали. Но Хозяйка посмотрела на нее холодно.
— Дурочка, — ответила она. — Исцеляет Господь. Ни один человек этой силой не наделен.
Нити отношений между ними всеми всегда были запутаны и натянуты. Теперь порвались. Каждая от прочих отъединилась; окуталась коконом собственных мыслей, остальным недоступных. С Флоренс или без нее, но получилось так, что друг от дружки они начали отпадать.
Близняшка исчезла бесследно, и единственная, кто знал ее, по ней не скучала. Блуждания Горемыки прекратились. Теперь она от дел не бегала, предпочитая ими так себя окружить, чтобы малышка оказалась в центре, а к сетованиям других сделалась глуха. Смотрела только в глазки дочери и видела в них серую ширь зимнего моря, средь которого бежит по ветру, раздувши паруса, корабль. Я твоя мать, — говорила она. — А зовут меня Завершенная.
Тяжел мой путь к тебе и долог, но тягот и скорбей его как не бывало, стоило увидеть двор, и кузницу, и хижину, где ты живешь. Сразу ушел страх, что никогда на этом свете не видать мне больше ласковой твоей улыбки, не пробовать сладости твоего плеча, крепости объятия. От запаха огня и железа возгорелась, но радость в твоих глазах — вот что воистину согрело мне сердце. Ты вопрошаешь, как, какими судьбами, смеешься над моей одеждой и над тем, что я сплошь исцарапана. Но когда я отвечаю на твое зачем, хмуришься. И мы решаем по-твоему, я соглашаюсь, поскольку иного не дано. Ты тотчас поедешь к Хозяйке, но в одиночку. Мне ты велел ждать здесь. Я не должна ехать с тобой, ибо так скорее. И есть еще одна претыка. Тут ты отводишь взгляд. Мои глаза смотрят туда же, куда твои.
Подобное уже бывало. Дважды. В первый раз я так же проследила из-за маминых юбок за ее рукой, но оная рука была лишь для ее меньшого. Второй раз ее рука прямо указала на плачущую девчонку, что пряталась и цеплялась за юбки матери. Оба раза это была опасность, а результат — изгнание. Теперь я увидела мальчика, вошедшего с куклой из маисовой плевы в руках. Он младше всех, кого я знаю. Ты протягиваешь ему палец, он за него берется. Этого ребенка, которого ты зовешь Малаик, оставить одного никак не можно. Он найденыш. Его отец склонился с облучка повозки, да и упал, выпустив вожжи, а лошадь бежала тише и тише, потом шагом пошла в поле щипать траву. Из деревни пришли люди, смотрят — помер, а мальчишка сидит себе спокойно в телеге. Никто так и не знает, кто был покойник, и по пожиткам тоже сказать не получается. Ты мальчонку принял до времени, когда мировой судья или кто из управы в городе вынесет решение, куда его деть, но этого может не произойти никогда, потому что у помершего кожа была розовая, а у мальчика нет. Так что он, может, и не сын ему вовсе. У меня даже во рту высохло, как подумала, что ты хочешь, чтобы он был твой.
Малыш подходит к тебе, а меня аж трясет. Как ты ему протягиваешь палец, а он овладевает. Как будто это он — твое будущее. А не я. И мне совсем не нравится, как у него глаза сверкнули, когда ты отослал его поиграть во дворе. Но после ты омыл мое лицо и руки от праха путешествия и дал поесть. Только соли было скудно. А так кусочки кролика нежны и мясисты. Остры искания голода моего, но искание счастья еще острее. Много есть не могу. Поговорили о всяком-разном, но я не говорила, что думаю. А думала я, что останусь. Что, когда ты возвратишься от Хозяйки — хоть выживет она, хоть нет, — я буду с тобою тут всегда. И никогда-никогда без тебя. Ведь я уже не такова, чтобы меня выкинуть. Никто уже не украдет покров с моих плеч и обувь с ног по малости моей. И лапищами зад щупать не посмеет. Никто ржать не будет как козел или жеребец, оттого, что пала я в страхе и слабости. И криком никто не закричит при виде меня. И озирать со всех сторон мое тело не будет аки диковину. С тобой мое тело есть радость благая и достояние твое неотъемлемое. Без тебя, без того, чтобы быть твоей, не могу, не хочу и не буду.
Читать дальше
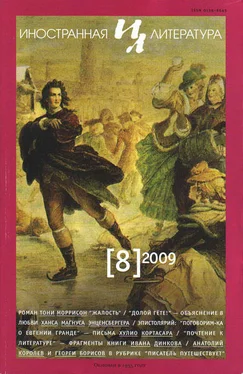





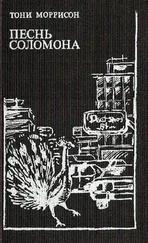


![Тони Моррисон - Любовь [litres]](/books/400488/toni-morrison-lyubov-litres-thumb.webp)


![Тони Моррисон - Возлюбленная [litres]](/books/420258/toni-morrison-vozlyublennaya-litres-thumb.webp)