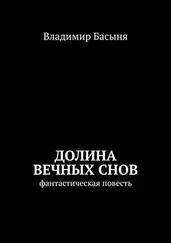Бальгур еще раз огляделся, придирчиво и зорко, и место ему понравилось… Все здесь было причастно вечности — небо с облаками, всегда зеленые сосны и даже маленькие цветы, упорно не желающие умирать. Ему показалось, что все эти долгие годы они ждали его, дождались наконец и теперь радушно звали присоединиться к ним.
Князь окликнул начальника нукеров, и когда тот приблизился, негромко сказал:
— Заметь это место — здесь будет последняя моя коновязь!..
После этого он направился к носилкам и стал уже укладываться в них, но тут вдруг невообразимой силы вихрь сорвал с места и небо, и землю, закружил их, смешал, уничтожил, так что ничего, уже не осталось в мире, кроме этих не признающих смерти цветов, которые спокойно покачивались на страшном ветру, погасившем даже солнце…
…Уже давно-давно что-то мешало ему, тревожило и словно бы звало. Он долго не мог догадаться, в чем дело, и ощущал из-за этого смутную досаду, но постепенно мир высветлился, и тогда князь увидел, что прямо в глаза ему мерцает одинокая яркая звезда. Дрожащий венчик ее лучей жил какой-то своей маленькой беспокойной жизнью. Звезда эта почему-то оказалась единственной в круглом дымоходном отверстии юрты, и неба вокруг нее было не совсем черным.
„Утро или вечер?“ — подумал Бальгур, и тут до него донеслись негромкие голоса. Он с трудом повернул голову и долго всматривался, прежде чем узнал своих тысячников. Все пятеро они сидели вокруг горящего очага и негромко о чем-то переговаривались. Увидев, что князь пришел в себя, тысячники встали и молча подошли к его ложу. Они были в боевых одеяниях и при оружии.
Бальгур чувствовал, что он что-то должен был сделать еще, но не мог вспомнить, и это его беспокоило.
— Войска… все здесь? — тихо спросил он.
— Да, князь, войска готовы к походу, — отвечал кто - то из тысячников.
— Да… — князь закрыл глаза и надолго замолчал. Тысячники продолжали стоять, готовые выслушать последнюю волю умирающего главы рода.
И вдруг Бальгур вспомнил то последнее, что еще надлежало ему совершить в этом мире.
— Максар… позовите его, — с трудом проговорил старик.
Он слышал, как тотчас зашелестели голоса, как удалились торопливые шаги и кто-то окликал кого-то за стеной юрты. Бальгур собрал все свои последние силы, крепясь не потерять сознание до прихода сына.
— Отец…
Бальгур открыл глаза. Перед ним высилась статная фигура Максара.
— Сядь, — Бальгур помолчал и голосом ясным и твердым проговорил: — Когда приедешь в ставку, передай шаньюю, что Тумань был прав. А теперь ступай… я устал…
„Кажется, я сделал все… — облегченно думал Бальгур, медленно погружаясь в безбрежный океан мрака и забвения. — Да, теперь я сделал все…“
Он окончательно успокоился, и на бесшумных крыльях к нему слетела смерть…
В мир теней глава рода Солин отбыл в полном боевом убранстве и в сопровождении любимого коня. Покрытый золотой фольгой гроб был помещен в двойной бревенчатый сруб на глубине в четыре человеческих роста. В погребальную камеру, выстланную коврами тончайшей работы, положили по обычаю драгоценности, к которым покойный был равнодушен при жизни, поставили глиняные сосуды с зерном, молоком и хмельными напитками.
К исходу дня все было кончено. Земля — последнее прибежище всего, что было, есть и будет, — на две тысячи сто восемьдесят лет скрыла в бессолнечной своей глуби стены княжеского захоронения.
Весь полутумэнь, сотня за сотней, в скорбном молчании проследовал перед могилой почившего вождя и, выходя на равнину, разворачивался в походные порядки. И как в былые времена, на возвышенность перед ними выехал князь рода — молодой Максар. Он привстал в стременах, поднял руку, и все увидели в ней красную стрелу войны. Выдержав несколько мгновений, князь круто вскинул лук и пустил стрелу в ту сторону, где за неясно синеющим краем земли были Иньшань, Алашань, Великая Петля. Пронзительный — на пределе — свист хлестнул по ушам, заставив всех невольно встрепенуться, и почти одновременно с этим Максар взмахом плети кинул своего коня вниз, увлекая за собой бунчужного, нукеров и сотни, которые, с места разворачиваясь в пять колонн, устремились вслед за князем.
А на краю пустынного леса, у самого входа в долину, заросшую сухими цветами бессмертника, осталась выложенная камнями гигантская фигура ЧЕЛОВЕКА…
* * *
Олег отбросил последний лист только тогда, когда багровый тусклый полумесяц коснулся вершин дальнего леса, и лист этот, потеряв свои очертания, превратился в расплывчатое серое пятно. Потирая одеревеневшую поясницу, он попытался сообразить, сколько же дней продолжалась эта запойная писанина. Вспомнилось, как раздражали с необыкновенной быстротой сгоравшие свечи, потом в памяти возникла жаркая поляна, где приходилось то и дело переползать с места на место, догоняя убегающую тень… и еще, снова — раскоп, освещенный не то восходящим, не то заходящим солнцем… Все это путалось, беспорядочно налагалось друг на друга, и Олег махнул рукой. Лишь сейчас он ощутил, как вымотался. И „Раскопию“ Павловичу он, конечно, подложил препорядочную свинью. Ничего себе работничек — в самый разгар работы уходит нахально и открыто, пропадает где-то целыми днями, по ночам бродит вокруг лагеря, заставляя вздрагивать бедного Харитоныча, а на рассвете пробирается в продовольственную палатку и поедает там всухомятку хлеб с сахаром. Возможно, было несколько иначе, но Олегу, в сознании которого дни и ночи смешались в сплошной черно-белый клубок, все это представлялось сейчас именно так. Около десяти лет назад, когда он взахлеб писал „Делюн-Уран“, свою первую поэму, с ним происходило что-то подобное, но не столь сильное и опустошительное. Сейчас он казался самому себе выгоревшим лесом, где стоит мертвая тишина, горько пахнет гарью и неподвижно чернеют обугленные стволы. Однако он был счастлив, устало и печально, и счастлив настолько, что если бы кто сказал: „Самое прекрасное, что могло случиться в жизни, ты уже получил, лучшего ничего не будет“, — Олег даже ни на миг не усомнился бы.
Читать дальше

![Владимир Митыпов - Мамонтенок Фуф [журнальный вариант]](/books/30130/vladimir-mitypov-mamontenok-fuf-zhurnalnyj-varian-thumb.webp)
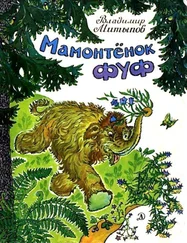

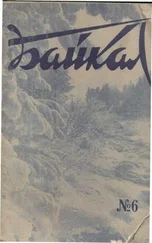






![Владимир Гурвич - В долине смертной тени [Эпидемия]](/books/433741/vladimir-gurvich-v-doline-smertnoj-teni-epidemiya-thumb.webp)