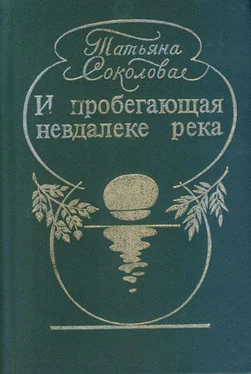— Жарко натопила я, Мура, — оправдывается Ольга, — еще вот подбросила.
— Дак я ведь ничего и не говорю. — Мура не оборачивается, полное лицо ее без единой морщинки, блестит, будто не кланялось шесть часов корыту; отвалясь на стену, она студит в эмалированной кружке чай; лучше бы не смотреть.
— Натопила, говорю, — жестко произносит Ольга, распахивая сушилку, выбрасывает, загружает. — Натопила, — повторяет уже зло, свертывая белье, встряхивает его, в ходу обе руки и рот, зажимающий углы простыни, голос ее глух, слова невнятны: — Баре, прости Господи. Все дрова хорошие выбрали. Одной мужик наколет, другой Степанида. На меня шипеть можно, никто не восстанет. Сына Витьки нет, не придет он при этих егармах.
— Ты что это? — Мура улыбаясь оборачивается к ней. — Говоришь что?
— А ниче. Устроились. — Худое темное лицо Ольги сухо, морщинисто, пота ни капли.
— Что-что? — напевно повторяет Мура.
— Ниче! Одна за мужиком, друга за Степанидой. Сена накосят, дров привезут.
— Зато у тебя ребята по институтам учатся, хозяйство поболе доброго мужика, парнишка под старость, — не оборачиваясь больше, плавно проговаривает Мура, Поля чуть заметно кивает.
— Корову на ветлечебницу и то Степанида сведет. Будто так и положено, — бормочет Ольга с наволочкой во рту, сушила бы последней, белье свернул бы Витька: по двадцать простынь, наволочек и полотенец, по десять кальсон и рубах. — Ой! — Бросив полусвернутую простыню, она кидается к сушилке. — Дура я, дура, — приговаривает там.
— Степанида Алексеевна до этих пор уважала тебя, — как провинившемуся ребенку, сообщает Мура.
Но Ольга уже молчит, стоит к ним спиной, свертывает, складывает, забегает в сушилку, опустив глаза, выскакивает из нее с последним бельем. Женщины судят о чем-то своем, будто никакого разговора и не было. Приходит Наталья, жалостливо спрашивает что-то у Ольги, увидев усмехающееся лицо Муры, поджимает губы, будто сама себе:
— Домой схожу, скотину хоть напою.
К вечеру мороз вовсе свирепеет, или кажется. Ольга несет на закорках узел с бельем, только теперь ее настигает озноб, горящее лицо леденеет. Кастеляншу тоже зовут Полей. Она невысоконька, пухленька, катается шариком между полок с бельем, выговаривает Ольге:
— За каким чертом тебе с ней связываться? Себе кровь портить.
Белье на завтра уже увязано, узел сброшен на пол, Ольге хочется поговорить, Поля ее жалеет, Витьке когда конфетку даст.
— Все я ей высказала. Они уж думают, нища да одинока, дак растележуся, топчите меня. Скотины, говорит, начто много. А на че я буду ребят учить? Степан Терентьич на войну уходил, велел всех выучить.
— Давай почище хоть наберу. — Поля протягивает руку к узлу.
— Нет. — Ольга встает с табуретки. — Заметят, на тебя взбрыньгают. — Разговор окончен, повторять кипящее в душе раз за разом Ольга непривычная, некогда, дома Витька и скотина ждут.
…Душа-то клокочет, будто кипяток в котле, как об стиральную доску, дума об нее трется.
— Спаси ты меня, Надежда Ивановна, ради Христа, сколь раз спасала. Когда в лесосеке в войну бревном придавило. Когда Пупышев голову бутылкой пробил, что сказала ему, вернулись, мол, вы, да не те, пьянствуете да баб перебираете, а те-то в сыром поле остались. — Зареветь была готова, десять-то лет назад.
— Что ты, Ольга. — Главврач сурова всегда, а тут почти с ласкою, вся семья ее где-то под Смоленском кончилась. — Дите — это радость. Счастье твое, может, в нем.
— Да через край уж счастья, Надежда Ивановна. — Ольга еще надеется. — Сорок третий мне, устала я, тех бы в люди вывести.
— Рожают ведь женщины и одни теперь. — Непривычно долготерпива главврач. — Человек пять по селу наберется. Не хватает на всех мужей, где взять.
— Молодые рожают, — Ольга свое, — кто ж их осудит.
— На этот счет не волнуйся. Время рожать велит. Сколько войной повыбило. Кто ж этого не поймет.
— Ох, осудят. Одна така выискалась, — ревет Ольга, — на все-то село. Куда деться-то, куда головушку приклони-ить?
— Хватит, Ольга. — Не переносит главврач женских слез и тоже курит папиросы. — Не могу я тебе аборт сделать. Запрещено это, поняла?
Запрещено, это уж как не понять-то, и сговорились они с Валькой к баушке в Ключевку ехать, Валька молодая, мужик справный, а третьего не надо. Она же сдуру Вальку уговаривать: а как помрешь, двоих малых оставишь. Испугалась Валька, ей же в ответ:
— Я-то помру, у меня мужик, баушка. А ты? Младшей пятнадцати нету…
Младшая довоенная дочь Витьку и выходила, сама Ольга после больницы сразу к корыту. Вторая дочь в райцентре в средней школе училась, парень старший в армии. Ни словом мать не попрекнули, Витьку любили, раз только в подойник с молоком опрокинули, но тут же молоко с него слизали, слезами умыли. Село почти все опустило глаза, незримо — отодвинулось. Каждая вторая после войны — вдова, все детей подняли, в города отправили. На каждого из оставшихся мужиков по две бабы, одна дневная — курица, другая ночная — кукушка. Все сложилось само собой, сначала с руганью, даже драками, потом мирно, почти законно, на долгие годы, у иных — до могилы. У Ольги длилось недолго, против неписаного, но закона, ярко, заметно.
Читать дальше