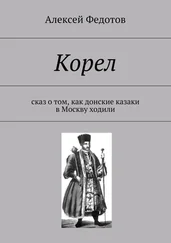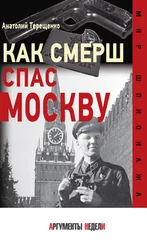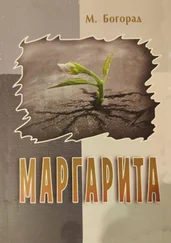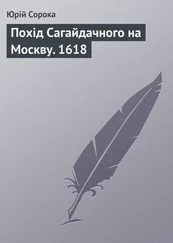— Народ, я только что, знаете, что понял? — медленно сказал Педро. — Оказывается, мы все живем две жизни. Одну жизнь мы живем, как обычно, а другую жизнь мы живем во сне. И, пока мы не спим, наша вторая жизнь, та, которая во сне, продолжается. Просто мы ее ни фига не помним. Вот прикиньте, как было бы круто, если бы во сне можно было зацепиться за ту точку, на которой закончился сон, и потом именно в нее вернуться. Было бы две абсолютно параллельных жизни.
— Педро, тебе надо свою голову институту завещать. Они по ней будут диссертации писать, — сказал Толик.
Педро Толика не слышал и продолжал говорить:
— Ну, смотрите. Вот ты просыпаешься всегда на той же кровати, на которой заснул. То есть бодрствование начинается на том же месте, на котором оно прервалось. И только поэтому тебе кажется, что вот это и есть твоя настоящая жизнь. Потому что есть какая-то внешняя неизменность. При том, что внутреннее все, ну, сознание то есть — оно-то как раз менялось, пока ты лежал на кровати, потому что ты не просто лежал, а видел сны. Так вот прикинь, что бы было, если бы ты во сне тоже возвращался в ту же точку, в которой сон прервался? Ну, типа, снилось тебе, что ты сейчас кого-то трахнешь, и на самом интересном месте ты проснулся. А тут, когда ты в следующий раз засыпаешь, сон начинается в том же месте, что вот кого-то ты сейчас трахнешь. Прикинь? Я только думаю, что так люди перестали бы спать, если, допустим, сон прервался на каком-то кошмаре, и они знают, что, когда заснут, там же он и начнется. Но главный прикол в том, что вообще стало бы непонятно, где твоя реальная жизнь, а где — нет. Они обе стали бы реальными! И вообще такого понятия, как сон, не стало бы больше. И такого, как жизнь — тоже! Ты же все равно обязательно заснешь когда-нибудь и обязательно проснешься. Поэтому эти обе жизни стали бы равноценными. И кошмары, и все, что нам снится, — это все стало бы параллельной реальной жизнью. А может, уже так и есть, просто мы не помним ни фига?
Потрясенный его монологом, с книжной полки упал Гессе, а за ним просыпался Норин бисер и ее же стеклянные бусы.
— Сдается мне, вы что-то дивное изволили курить сегодня, сударь, — сказала Нора. — И не поделились с друзьями.
— Держите, — сказал Педро, протягивая остальным беломорину.
— Ну, началось. Я пошел на тренировку, курите свое говно сами, наркоманы, — сказал Толик.
По стаканам разлили джин-тоник из пластиковой бутылки. Нора сделала две затяжки. Потом третью. После четвертой ей показалось, что в комнате пахнет горами, теми горами, куда они в прошлый раз ходили в поход.
Она увидела со стороны, как они с Толиком полулежат над речкой и смотрят на стволы деревьев, упавшие в Бешенку и живущие в ней, как змеи. Над ними дрожат тонкие свечки цветов одичалых каштанов, на дальних хребтах виден снег в серых морщинах, вокруг пылают, как тот пылающий куст, рододендроны, и покрытые мхом валуны пялятся в лес.
Нора сказала тогда Толику:
— Мне кажется, нигде не может быть лучше, чем здесь — ни в Швейцарии, там, нигде. Просто потому, что лучше не бывает. Как ты думаешь, ты бы мог уехать отсюда?
— Из Бешенки?
— Из России, дурак!
— Я думаю, нет.
— И я тоже не могла бы. Не дай Бог.
— А чего не дай Бог-то? Если сама не захочешь, тебя никто не заставит.
— Это тебе так кажется, что никто не заставит. Ты просто погромы не видел.
— А ты, можно подумать, видела?
— Конечно, видела. В восемьдесят девятом, не помнишь? Когда начался Карабах и тут за ночь провели демобилизацию. Всех мужиков собрали и сказали семьям, что отправят их в Карабах разбираться. А те, кто остался, утром пошли бить нерусских. Типа, мстить, за то, что их мужиков на чужую войну послали. И к нам во двор тоже пришли.
— Ну, и как это было?
— А как ты думаешь? В моей жизни ничего вообще страшнее никогда не было. И не будет, я надеюсь. Я когда увидела, как у нас окно разлетелось прямо над бабушкиной головой, и мама кричит, и сестра спряталась в шкаф… не хочу даже вспоминать.
Толик приподнялся на локте.
— Ну и что, ты после этого не хочешь уезжать из России?
— Не хочу. Это же все равно моя Родина.
— Какая она тебе на хрен Родина? Она тебе не может быть Родиной, потому что в тебе нет русской крови. Ты никогда ее не сможешь любить так, как я ее люблю.
— Я больше люблю, чем ты, Толик. Тебе нечего ей прощать. А я ей простила погромы.
Нора снова затянулась. Постепенно ее зрение покинуло ее, а за ним покинул и слух. И оба вселились в холодильник. Теперь не Нора, а холодильник стоял и видел, как глупо смеется Димка, и удивленно слушал, что говорит Педро. А Педро смотрел в окно и говорил непонятно:
Читать дальше