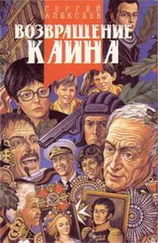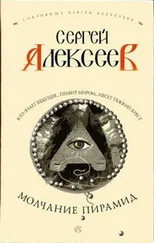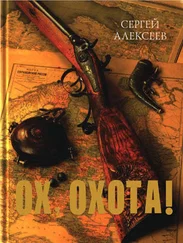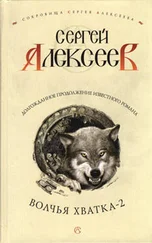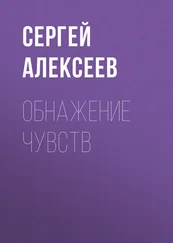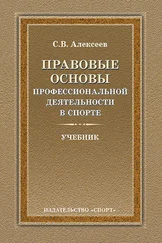Однажды в юности Глеб попал за решетку – милиция делала ночные облавы на подростков, а потом вызывала родителей и воспитывала. И вот, сидя в «телевизоре», он увидел маму сквозь прутья арматуры, вернее – только ее глаза на бледном, изможденном лице и содрогнулся. Показалось, в них столько боли, что она сейчас умрет! Забывшись, в каком-то исступлении, он потряс решетку и закричал:
– Мама! Не умирай! Я больше никогда не попаду в тюрьму!
А пацаны-сокамерники захохотали, иные вообще покатились со смеху, поскольку его вопль был расценен как слабость и унижение. Еще кто-то в спину пихнул и еще пнул в зад, как пинают опущенных...
Мама же тогда даже не ругала и не наказывала его, и потом, уже дома, сказала, чтоб он не зарекался от тюрьмы и сумы.
Эти ее глаза с мучительной, предсмертной болью вставали перед взором всякий раз, когда он попадал в какую-нибудь неприятную историю либо чуял приближение опасности. Но сейчас вроде бы ничего подобного не ожидалось, к тому же сразу после звонка сестры служба безопасности доложила, что хранитель музея сам остался в помещении, заперся изнутри и теперь ходит по залам как привидение с геологическим молотком в руках. Никто на подмогу к нему не пришел, баррикад не строил, да и вообще кругом все тихо. Бойцы ЧОПа незаметно сосредоточились в пустующем здании, стоявшем во дворе музея, и только ждут команды к штурму.
Машина с Шутовым и Аланом догнала только под Шерегешем, и Балащук, внезапно ощутив приступ раздражения, стал отчитывать не водителя – своих гостей. Писатель только пучил на него глаза навыкате и багровел, а бард мечтательно поглядывал на вершину Мустага. Предупрежденный управляющий уже включил канатку и ждал шефа, чтобы подсадить в кресло, однако Глеб оттолкнул его, сел сам и в одиночку, хотя обычно брал с собой Веню Шутова, чтобы за пятнадцать минут подъема обсудить текущие дела и более к ним не возвращаться. Ни писатель, ни бард не были законченными холуями, иногда могли проявить характер, особенно мечтательный Алан, и Балащук вдруг испугался, что они сейчас повернут назад и уедут, оставив его одного. Поэтому через некоторое время обернулся и крикнул:
– Ладно, мужики, простите!..
Гости пропустили несколько кресел и все-таки сели, тоже поодиночке. Никто из них не отозвался, разве что бард расчехлил гитару, принялся настраивать, но и этого уже было достаточно.
Мустаг манил и сейчас. Может, потому, что в долине уже было темно, а Курган с линзами снега еще сиял от последних отсветов зашедшего солнца и отчетливо просматривался блестящий крест.
Не собирался Опрята идти встречь солнцу далее Вятки-реки и города Хлынова. Мыслил взять должок с хлыновских разбойных людей за потопленные на Ярани ушкуи с добычей и устроить спрос с Весёлки, что сидел в лесах на Вое. Весть пришла, будто не ордынцев грабит, а тайно спутался с ними и теперь по чужой воле притесняет и честных ушкуйников, и хлыновцев. В общем, порядок на Вятке учинить, и к зиме, малым числом, Лузой, Двиной и далее пешим ходом – то есть иным путем, дабы не скараулили на Сухоне супостаты, возвратиться обратно, в Новгород.
Только на следующий год, поправив дела и укрепившись на лесной Вятке, думал он отправиться набегом на Орду, когда сами ордынцы по весне уйдут воевать земли в стороне полуденной и оставят на поживу добычу легкую – жен своих, детишек малых и добро, награбленное и свезенное в Сарай со многих покоренных земель. Воевода ушкуйников имел тайный уговор с новгородским князем по поводу сего похода. Ежели набег удастся, князь ему все недоимки простит и впредь еще три лета десятины брать не станет от добычи и от ватажных людей. И посему Опрята замыслил прежде изготовиться, скопить силы на Вятке-реке, и оттуда уже, дабы все подозрения ордынцев отвести от Новгорода, пойти и позорить Орду.
Стражу ордынцы оставляли не великую, ибо хоть и были умом проницательны и хитры, да уж никак не ждали столь дерзкого набега, полагая, что усмиренная и подданная Русь долго теперь не залижет раны. Этим их заблуждением и намеревался воспользоваться лихой боярин Опрята и до поры замыслы свои держал в великой тайне.
Накануне же вполне безопасного похода к Хлынову, когда ватага из полутысячи ярых и отважных ушкуйников была уже собрана и ушкуи стояли на высокой, полой воде, явился к Опряте новгородский купец Анисий Баловень. В молодости он тоже промышлял ушкуйным ремеслом, ходил и по Оке, Каме и Волге, да в одной из стычек с мордвой получил увечье, лишившись правого глаза. И стало ему несподручно ни из лука стрелять, ни рогатину держать, ни на гребях сидеть, ибо пустая глазница кровоточила. Но иные говорили, дескать, это он сам выколол себе око, дабы от ватаги своей отстать и заняться скупкой добычи, привозимой другими ушкуйниками из походов. Опрята и сам продавал Анисию мягкую рухлядь, сукно и кое-какое серебро, если удавалось добыть, – иного добра Баловень не брал.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу