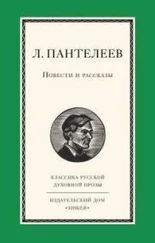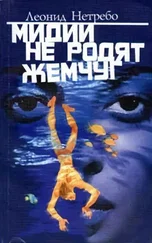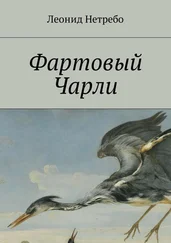Ветер нес поутру колкую былинку,
Оборвал невзначай с ветки паутинку.
Оборвал и умчал и не ведал даже,
Как рыдал паучок из-за той пропажи.
(«Паутинка»)
Она была необычным человеком. Развитым, культурным, красивым. Одних коллекций у нее осталось несколько: марки, статуэтки, книги, подсвечники… Она любила красивое. Но главным ее увлечением, помимо работы с детьми, была поэзия, в плену которой она находилась и днем, и ночью.
Она, как, наверное, и все поэты, творила по ночам. Наутро, почти всегда, в блокноте, который постоянно лежал под подушкой, оказывалось что-то новое: в лучшем случае стихотворение, чаще — просто строфа, рифма, строчка… Здесь, в Пангодах, могла появиться первая собственная книга. Но…
Будучи безнадежно больной, она продолжала писать.
Все мяукал котенок во дворе под кустом,
Как хотелось котенку, чтоб позвал кто-то в дом!
Вдруг с куста, одинокий, прошуршал желтый лист…
Показалось котенку, что позвали: кис-кис!..
Замирая от счастья, он помчался на зов.
Только дверь оказалась заперта на засов…
(«Забытый котенок»)
Галина Мельникова так и не увидела первого для нее сборника, коллективного, одним из авторов которого она стала. Сборника, вышедшего стотысячным тиражом, с незамысловатым названием — «Подорожник». Для составителей, вероятно, «Подорожник» — отовсюду; то, что еще не известно, но набирает силу. А для меня, как пангодинца, так щемяще: вечное и скромное — лекарство; на обочине.
Класс заполнен необычно, несимметрично: приоконное пространство свободно от парт.
Едва учительница сказала о том, где родилась и выросла, во мне буквально зазвенела песня из школьного детства (пионерский лагерь):
Эльбрус красавец смотрит сквозь тучи,
В белой папахе, в синеву.
Этой вершиной дивной могучей
Налюбоваться не могу!
Дальше следовал темпераментный припев, восклицания с прихлопом на каждый слог:
О, рай-да, рай-да!.. О, рай-да, рай-да!..
О, рай-да, рай-да!.. О, рай-да!..
Мы не понимали, что такое «рай-да». Но у гигантского ночного костра, когда раскаленные, потерявшие вес осколки летят в померкшее от яростного огня небо, а макушки ближней рощи волшебно превращаются в колышущиеся темные вершины, нам представляется иной, сказочный, мир: синие горы, тучные стада, счастливые кавказские чабаны в белых бурках и папахах. Они, благодарные судьбе, стране, радостной песней славят свою жизнь (которая для нас, увы, так мы думали, — могла быть только сладкой мечтой!), а горы им вторят согласным громким эхом…
«Рай! — Да!.. Рай! — Да!..»
— Кавказ, место, где я родилась и выросла, — рай! — поблескивая угольными глазами, говорит южная женщина по имени Любовь. — Вслушайтесь в слово «Эльбрус»: это — вздрогнули горы, с гулом поползли к подножьям снега…. Или можно представить совершенно иное: чистый, звонкий, голубой воздух, орел парит…
На Кавказе большое значения придают имени, которое не должно быть просто приятным звуком, ему предписано быть «нагруженным» определенным смыслом, высоким и красивым: любовь к своей земле, к родителям, уважение к родственнику, другу, соседу…. Так, например, после Отечественной войны в Приэльбрусье появились мальчики Замиры (за мир), Дамиры (даешь мир)…
Султан Шебзухов назвал дочку в честь дружбы, именем жены своего армейского друга — Любовью.
Любовь Султановна Шебзухова, старшая женщина единственной в Пангодах черкесской семьи. Ей немногим за тридцать. Невысокая, крепкая, преисполненная скромного достоинства учительница местной школы, завуч. Прическа — свободные, не заколотые, не подхваченные лентой, не заплетенные волосы — крупные смоляные кудри, которые иногда резко вздрагивают в эмоциональном такте, согласно восклицанию, движению.
Однажды в детстве любознательная девочка обратила внимание: мать отца, совершая мусульманскую молитву, обращается лицом не к Мекке, а к Эльбрусу. В нужный момент спросила у нее: почему? «Как почему?!» — было восклицание. «Там ведь все боги!» Отец потом объяснил: у некогда языческого Кавказа Эльбрус являлся тем же, чем для древних греков Олимп, — домом богов. «Вот и подумай, дочка, кому поклоняется наша бабушка?» — Лукаво помолчал. — «Ну, ладно, не ломай голову, проблема того не стоит».
Отец, сколько жил, часто повторял (а Люба непременно вспоминала при этом молитвенную путаницу любимой бабушки): мнение о человеке не должно зависеть от того, какого бога он предпочитает и на каком языке его славит. Суди по делам.
Читать дальше