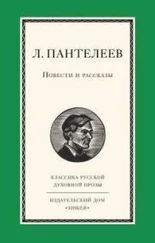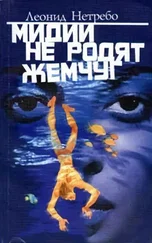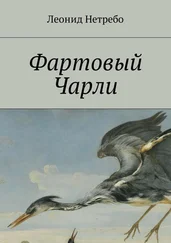В группе я был одним парнем на двадцать восемь девчонок. Поначалу стеснялись: они меня, я — их. Потом ничего, привыкли, даже, случалось, мог и бретельку помочь поправить, зеркальце подержать.
На практике приходилось стоять за прилавком. Заходят иной раз бывшие коллеги с завода — мне неудобно, краснею… Говорю директору магазина: давайте, я лучше где-нибудь на расфасовке или на погрузке буду работать, мешки таскать. А директор мне: учись! Мешки, мол, можно и без диплома ворочать.
Закончил техникум с красным дипломом. Пошел в магазин, вскорости стал начальником мясного отдела. В армию не брали: болела мама. А возраст такой — ни туда, ни сюда. Решил отслужить, как все, когда мать поправилась. Пошел в военкомат проситься. Офицеры — глаза удивленные: ты, наверное, проворовался, мясник, а теперь хочешь в армию — и концы в воду? Пришлось приносить характеристики, справки, разрешение от матери…
Служил в Казахстане, в войсках ПВО, «оператором системы выдачи команд». Военная специальность была вполне по душе. Вся торговля из головы вылетела — хорошо! А после дембеля, уже на третий день после приезда домой, пошел в родной Горторг. Не знаю что, — ноги сами понесли. Стал работать, рос быстро, скоро назначили замдиректора торга. К работе подходил творчески: много читал, анализировал, внедрял передовые методы работы — у меня получалось легко. Мне кажется, так всегда бывает, когда работа интересна, в радость. Заочно окончил кооперативный институт (с отличием). Предложили учебу в аспирантуре. Но ехать в Москву жить с семьей на сто рублей стипендии я не мог. Тем более что никаких накоплений не было. Материальное положение и было причиной нашего приезда на Север — планировали заработать на машину, мебель, ну и на сберкнижку чего-нибудь положить…
Да, получилось так, что торговля стала моим способом самоутверждения. Но не в смысле утверждения «над» кем-то, не в смысле обладания тем, «чего мало» и не всем доступно, а просто работой — интересной, без которой мне случись что — уже было бы плохо. Жизнью. Почему я так подробно расшифровываю, чуть ли не оправдываюсь? Потому что прекрасно знаю сам, и людям об этом прекрасно известно: не у всех из моих коллег с профессией так.
… Очередь за мясом в центральном пангодинском магазине. Я, начинающий молодой семьянин, осваиваю новую для меня роль — добычу хлеба насущного для ячейки общества. В очереди кроме меня почему-то одни женщины, молчаливые и упорные. Стук топора. Непериодический, с длительными паузами, — вынос «неперспективного» мяса. Часа через два «очередная» пытка завершается вручением мне двух килограммов завернутого в кровавую бумагу «нечто» (которое дома жена, прощающе вздохнув, охарактеризует тоже широкосмысловым «ничего»).
На следующий день коллега по работе, известный более как часовщик-надомник, отечески заметил:
— Видел я тебя вчера в очереди… М-мм! — он поморщился с укором. Некрасиво. Не престижно. Только жить начинаешь — и в очередь.
На мой несколько запоздалый для человека, уже окончившего технический вуз, вопрос: что же престижно? — коллега ответил:
— Ну, вот, если бы ты был, к примеру, как и я, часовщик или, там, другой полезный человек… Пришел бы к рубщику и сказал: привет, как часики-то, — ходят? Отруби-ка от ляжечки, только много не надо, лучше послезавтра за свеженьким заскочу. Домой приходишь — ну, прикинул разницу? — ты ж в глазах жены — котируешься!..
Нельзя сказать, что мне открылась какая-то тайна, но после этого я, видимо, уже не случайно, из череды ежедневных знакомых прохожих стал вычленять одну фигуру, если она вдруг попадалась на моем пути. Этой фигурой был грузчик. Или рубщик. Не важно. Одно ясно: это, в тогдашнем рациональном понимании, был «котируемый» человек.
Каждый вечер он, возвращаясь с работы домой, проходил мимо крошечного сквера, по пангодинскому «бродвею» — центральной пешеходной дороге шириной в две бетонные плиты, которая была одновременно и проспектом, и тротуаром. Это был не просто проход через центр поселка «котируемого» человека. Это была сказка. Это была песня.
Он всегда нес, как кувшин величавая грузинка (но не опустившая гордых очей к долу, а смотрящая поверх всего, поверх суеты…), держа на поднятой до уровня плеча ладони, завернутое в многослойную атласную коричневую бумагу, «нечто». Совсем неважно, чем конкретно было это невидимое «нечто» куском говядины, банкой птичьего молока или ячейкой «козьих яиц». Это был жезл, скипетр — символ непохожести, знак обладания, знак власти. Это было понятно всем окружающим, и именно это было важно для «котируемого» человека — так он шел, так он нес.
Читать дальше