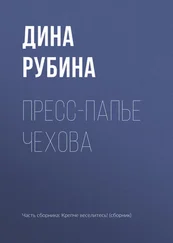Нечего и сомневаться в том, что это было глупой отроческой позой, попыткой продемонстрировать мою независимость, проложить, как мы теперь выразились бы, собственный курс.
Моими героями стали Барбара Кастл и, разумеется, Энох Пауэлл, которому я простил даже его изгадившее жизнь каждого школьника издание Фукидида; я зашел так далеко, что послал ему бессвязное письмо со словами преклонения и поддержки.
Минуло двадцать лет, и хоть теперь меня уже не волнует, какой туалетной бумагой я пользуюсь и какой зубной пастой питаюсь, а политические пристрастия мои окончательно отданы партии лейбористов, мнение по европейскому вопросу я меняю ежедневно, становясь, совершенно как душ в отеле, то слишком горячим, то слишком холодным. Время от времени я начинаю страшиться безликих технократов, а затем говорю себе, что, если уж на то пошло, так и в компании наших уайтхоллских хозяев приличной физиономии тоже не сыщешь. Политика диктата может в равной мере употребляться и Вестминстером, и Брюсселем, думаю я. И нельзя же сказать, что нам не дадут участвовать в выборах европейского правительства, верно? А если нынешняя рецессия есть часть общемирового спада, то имеет ли смысл понятие экономического суверенитета? Но тут я вспоминаю о возможности, которую на прошлой неделе столь ярко осветил в «Телеграфе» Макс Хэмс, о том, что Брюссель может запретить детям доставлять нам утренние газеты, и мигом даю задний ход.
В конечном счете клановость, которая начинается с того, что мы судим о людях по используемому ими чистящему средству, а заканчивается бомбардировкой Дубровника, это не та сила, с которой человеку стоит радостно себя отождествлять. В домах других людей тоже может порою найтись что-то хорошее.
Несколько дней назад ушел на покой – к ликованию всех, кто любит театр и подвизается в нем, – один прославленный (в разумных пределах) театральный критик. Славой своей этот джентльмен был обязан, как мне представляется, скорее долголетию, нежели чему-либо другому, ибо работал он в лондонской вечерней газете, а тем из вас, кто живет вне пределов Лондона, вряд ли известна либо интересна карьера столичного журналиста.
Да, но ликование-то тут при чем? Вы, может быть, уже испугались, решив, что я вознамерился использовать несколько дюймов отведенного мне газетой пространства как оселок для оттачивания моего сугубо личного топора. Смею вас заверить, что не имею никаких, насколько я помню, персональных причин для нелюбви к этой довольно потешной персоне, являющейся «человеком театра» в такой же мере, в какой Аттила Гунн является федералистом, – как, собственно, и к любому другому представителю его жутковатой профессии.
Впрочем, личные чувства место тут все же имеют. Еще ребенком я видел по телевизору фильм «Зеленый человек» с Аластером Симом в главной роли. Любой, практически, фильм, в котором снимается этот несравненный актер, дает нам мгновения счастья настолько полного, насколько оно может быть полным в нашем подлунном мире. В этом фильме есть такая сцена: он пытается вытурить трех музыкантш из комнаты, которая нужна ему пустой, – одна из самых смешных, когда-либо запечатленных на целлулоидной пленке. Наблюдая ее, я корчился в судорогах наслаждения, и, что еще важнее, она внушила мне стремление как-то – все равно как – причаститься к миру, в котором совершаются подобные чудеса. Недавно этот фильм снова показали по телевизору. А за неделю до того он был описан в телепрограмме, предлагаемой нашему вниманию одной воскресной газетой, как «беспомощная и в конечном счете недостойная Сима демонстрация его возможностей». Ну хорошо, я вовсе не претендую на то, что мое мнение о фильме является обязательным для всех и каждого, – de gustibus [205]и так далее, – но каков, однако же, тон этого высказывания. И до чего же он типичен для всех критических эскапад, внушающих нам недовольство критиками и отвращение к ним. Подловатое, претенциозное высокомерие выскочки, считающего, что он вправе называть артиста всего лишь по фамилии, осуждение фильма ex cathedra , [206]холодное презрение, полное отсутствие чего-либо, хоть отдаленно напоминающего энтузиазм и любовь, – и ни единого намека на приязнь к тому, как это сделано, на удовольствие или какие бы то ни было чувства, испытываемые людьми, которые любят кино, любят комедию, драму, актерскую игру или повествование в любом его виде.
Сказав, что, если бы эти нелепые господа умели делать все то, о чем они судят, тратя на это дни своей жизни, [207]я опустился бы до трюизма. Очевидным является и то, что последними смеются наши потомки. Кто и когда вспомнит о дрянного качества желчи, изливаемой людьми наподобие Мартина Кроппера, Майкла Коувени и Льюиса Джонса, кого сможет она вдохновить? «Ну перестань, Стивен, – могли бы сказать вы, дочитав до этого места, – не стоит обижать людей, не имея на то весомой причины». Ладно, согласен. Я тоже так думаю. Возможно, и боль, причиняемая критиками, ничего решительно не значит. Да-да, кое-кого их критические стрелы ранят, и ранят сильно, порою до слез. Как раз в минувшие выходные сэр Джон Миллс рассказывал мне о том, как он однажды сидел в своей гримерной перед зеркалом и вдруг расплакался, вспомнив, как отозвался о нем некий критик, имя которого он теперь уже напрочь забыл.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу







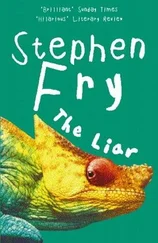



![Стивен Фрай - Лжец [litres]](/books/420549/stiven-fraj-lzhec-litres-thumb.webp)