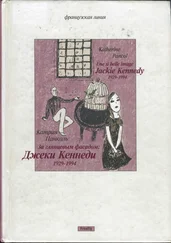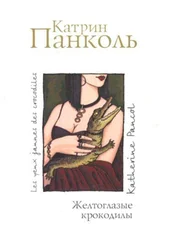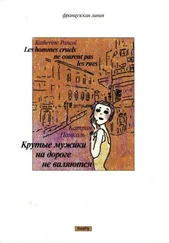Ее всегда что-нибудь не устраивало. Слишком старый, слишком молодой, недостаточно солидный, недостаточно практичный, нет страховки на квартиру, дурацкая профессия, никакой перспективы. А ты заметила? У него жирные ляжки. Не знала, что тебе нравятся толстые мужики. Он тебя раздавит. Никакого удовольствия не получишь. Я бы точно не получила.
Я сжимала челюсти и выдавливала из себя принужденную улыбку, лишь бы избежать скандала. Я изображала из себя миротворца. Пыталась умиротворить мужчину, который начинал скрипеть зубами. Ты знаешь, убеждала я, она очень одинока, всю жизнь пахала как лошадь, нельзя же совсем ее забросить — после всего, что она для нас сделала.
Она вечно жаловалась и ныла. Смотрела на всех злобным взглядом. Прижимала к себе сумочку — кругом одно жулье. И вдруг, увидев на улице какую-нибудь шелудивую дворняжку, присаживалась перед ней на корточки и заводила ласковую песню. Или бросалась к какой-нибудь древней старушонке, брала ее за руку и переводила через дорогу, одаривая при этом самой ослепительной из своих улыбок. Дворняга лизала ей руки, старушка целовала в щечку. И она стояла с глазами, полными слез, — ее любят.
Ее любят.
Любовь была для нее главным делом жизни. Она рыдала над злоключениями принцев и принцесс, не пропускала ни одной телевизионной передачи с венценосной свадьбы или похорон, сидела не дыша и только прижимала к глазам мокрый платок. Какие они красивые! Господи, она же была совсем молодая! По сто раз пересматривала «Унесенных ветром» и «Историю любви». Выходила из кино с покрасневшими глазами — ни дать ни взять маленькая девочка, — и мне ничего не оставалось, как брать ее под руку и утешать. Чужое горе — подлинное или экранное — делало ее беззащитной, уязвимой, отверженной. Она прижималась ко мне и повторяла: «Я ведь тебя люблю, ты знаешь, что люблю. Ты моя любимая маленькая доченька. Только не понимаю, почему ты так меня обижаешь?»
Я, обижаю? Я застывала в недоумении.
«Конечно, обижаешь, все время обижаешь. Ты всегда была ко мне жестока, с самого детства. Тебе еще и пяти лет не было, а ты уже научилась так на меня смотреть — прямо в глаза, как чужая».
Пятилетняя девочка не может быть жестокой с матерью. Это невозможно. В таком возрасте мать — это весь мир и вся вселенная в придачу.
Послушай, говорила я ей, послушай, ну хватит, не начинай ты опять…
«Это почему же?»
Она требовала любви. Она требовала, чтобы я наполнила ее любовью по горлышко, по макушку, потому что жизнь ей в этом отказала. Она как будто впадала в детство, кривила губы, как обиженный ребенок. Надувалась. Сжимала кулаки. Поддавала ногой упавшие каштаны. Без конца твердила: «Ты меня не любишь, ты меня не любишь» — с единственной целью: чтобы я также беспрерывно повторяла: «Нет, люблю, нет, люблю». Мои слова не достигали ее слуха и никогда не могли насытить ее голод.
Если б только ты меня любила, говорила она.
И излагала длиннющий список необходимых условий. Ты бы сделала это и то, ты бы стала такой-то и этакой. Вот у меня есть подруга, Мишель, так ее дети действительно любят свою мать, они ее слушаются, они делают все, как она скажет…
И жестким пронизывающим взглядом толкала меня в яму со львами. Она объявляла меня неспособной к любви, потому что я не могла ей угодить.
Ни разу она не сказала мне спасибо.
Я давала, давала и давала, но все мои дары проваливались в нее, словно в бездонный колодец. Разве можно наполнить колодец без дна? И всегда ей казалось, что моих подарков мало, что они плохие и вообще, она хотела совсем другого. Я все время делала не то и не так. Если же я открывала рот и пыталась выспросить, чего ей все-таки надо, — ты только скажи! — она окидывала меня раздраженным взглядом и отворачивалась в сторону. С видом оскорбленной невинности.
Она и сама толком не знала. Но виновата в этом неизменно оказывалась я. Она объясняла мою неспособность удовлетворить ее желания невнимательностью и равнодушием.
— Ты меня не любишь. Если бы ты меня любила, ты бы догадалась. Тебе не пришлось бы спрашивать. Тот, кто любит, не задает вопросов. Любить — значит отдавать не рассуждая. И не осуждая. А ты только и делаешь, что меня осуждаешь.
— Я никогда тебя не осуждала! Я просто хотела, чтобы мы с тобой научились понимать и любить друг друга.
— Любить нельзя научиться. Или любишь, или нет. И ты еще меня осуждаешь!
Осуждать в ее устах означало придерживаться иной, чем у нее, точки зрения. Попытку ответить она воспринимала как оскорбление. Она лишала нас права голоса, сама вещая как оракул. Да, мамочка, да, мамочка, да, мамочка. Других слов она от нас слышать не желала.
Читать дальше