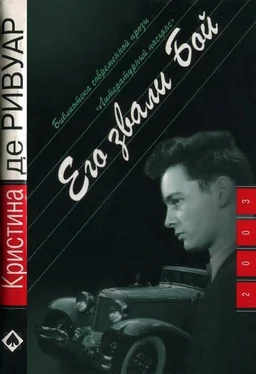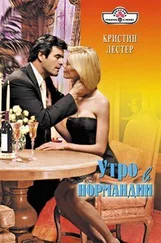Когда мы пришли в часовню, она была пуста и мы увидели только красную лампаду перед Святыми Дарами, Жанну д’Арк в кольчуге из посеребренного гипса и лурдскую Богоматерь, платье и покрывало которой тоже были из гипса. Папа сказал, чтобы мы стали на колени и молились, дабы нехристи, устраивающие революции, и трусы, позволяющие делать это, были наказаны. Он сказал, что испанские революционеры, прежде чем расстрелять монахинь, снимают с них одежду, о чем он только что прочел в «Курье Руаяль», что это отвратительно и возмутительно, но что он не имел права не сказать нам об этом, во-первых, потому что мы уже большие, даже Надя, а во-вторых, потому что он считает, что мы слишком равнодушны и безразличны. Очнитесь, сказал папа, и голос его прогремел в пустой часовне. Сестренки прижались к маме, а Надя даже заплакала. Я же видела перед собой картину: моя красавица-мама, как мадонна в своей соломенной шляпке, сестры, как младенец Иисус в розовой либерти, а в глубине — бесстрастные Жанна д’Арк и лурдская Богоматерь. Я подумала, что я тоже превратилась в гипсовую статую, и мне не хотелось представлять себе монахинь совсем без одежды, я отказывалась верить в их смерть от изрыгающих пламя ружей, они казались мне нереальными, несуществующими. Так же, как замок Барэж, сгоревший в 1793 году, так же, как моя прабабушка Хильдегарда со своей вуалью на шляпе, проживавшая на улице Дэвида Джонстона. Папа все придумал. Я видела пляж, мальчиков и девочек на качелях, и других мальчиков и девочек, которые бежали к морю, крича от радости, освещенных прекрасным летним солнцем. Вот это было правдой, этого никто не придумывал, я хотела верить только в свет, в счастье, в свое тело, рассекающее воду или плавающее на поверхности, в свое тело со всеми его органами чувств, с их ликованием, слово-то какое красивое, как будто оно сделано из колокольчиков. А все думы о смерти, которые пытался пробудить во мне папа, я гнала как можно дальше. Прочь от меня, смерть! Я покорно повторяла слова молитвы, Отче наш иже еси на небесех, слава тебе, Мария, но с таким же успехом могла бы повторять и список имен библейских пророков, и виды египетских казней или же перечислять подписанные Наполеоном договоры, я была далеко-далеко, там, на берегу моря, на качелях, в лучах солнца.
А теперь осталась одна скука. И я томлюсь в клетке, сколоченной из скуки. Только что папа вышел из раздевалки в полном облачении игрока в гольф: полотняные бриджи, обувь с подошвами, усеянными гвоздями, чесучовая куртка, несмотря на жару. И фуражка в коричневую и зеленую клетку, а на изнанке этикетка: Бюсвин, улица Пьера Шарона, Париж. А под каскеткой — опять улыбка Мазарини. Мы были в салоне клуба, мама, сестры и я молча сидели на диванчиках, обитых цветастым вощеным ситцем, ждали. Он спросил меня:
— Будешь моим кадди, Хильдегарда?
Святая Магдалина, вот уж чего мне больше всего на свете не хотелось! Шагать за ним по траве, до того зеленой и бархатистой, что она кажется искусственной, тащить огромный мешок с клюшками, ремень режет плечо, здороваться с игроками, его знакомыми, с дамами в юбках-брюках, которые вечно спрашивают, сколько мне лет, и называют меня милочкой, с толстенными дядечками в рубашках Лакост, говорящими на каком-то тарабарском жаргоне. Вы видели этот драйв? Красиво положил в тройку. Мазарини ждал моего ответа, стоял и улыбался в своей фуражке, из-под верхней губы высовывался клык, я никак не успевала послать маме умоляющий взгляд, чтобы она нашла какой-нибудь предлог, нужно было изобретать отговорку самой, причем быстро.
— Ну я, я… Сабина де Солль мне написала уже три письма из Италии, а я не ответила, мне хотелось бы сейчас написать ей.
— Очень хорошо, — сказал папа, — пиши Сабине де Солль.
Уф, получилось! Сабину де Солль папа уважает, он говорит, что у нее изысканные манеры, и ему нравится, что ее предки, так же как и наши, эмигрировали во время Революции. Не в Любек, не в Германию — аж в Новый Орлеан, в Америку. Это не существенно, в какую страну, говорит папа, важны убеждения. И он оставил меня в разрисованном клюшками салоне клуба за письменным столом, где лежали стопки фирменной бумаги. Сестренки с детьми других игроков в гольф пошли под тень деревьев играть в песочек. Папа отправился с мамой, взяв ее за руку, я видела, как они прошли мимо окон. Мама перед этим успела переодеться, и вместо голубого платья на ней было белое пикейное, без рукавов. Я увидела волосатую руку папы на обнаженной руке мамы, и мне стало неприятно. Ну почему я дочь и мамы и папы? Почему маме не была дарована привилегия непорочного зачатия? Единственный мужчина, которому я разрешила бы прикоснуться к маме, — дядя Бой, ах, дядя Бой, где же он теперь? После обеда он сказал: ну, детки, сегодня вечером поведу вас на праздник огненного быка. На что папа самым холодным, самым резким своим тоном ответил:
Читать дальше