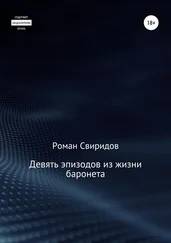Я тоже ехал в первый раз. То есть не то чтобы совсем в первый (слава Богу! и на каникулы, гимназистом, езжал, и детство провел в деревне), но свет фонаря так хорошо рекомендовал ее круглый, розовый подбородок, шею и красивый склад губ, что мне захотелось иметь с нею как можно больше точек соприкосновения. Она говорила грудным, свежим голосом, немножко тихо, так что мне приходилось наклоняться вперед.
Она — дочь полковника, а я — губернского секретаря; но это всё равно. Она окончила фельдшерские курсы, а я мечтал поступить на медицинский факультет; мы, стало быть, вроде как товарищи. У нее жив отец, у меня — мать. У нее — два брата, у меня (вот совпадение!) — сестра и племянница. Один брат в офицерах служит, а другой… далеко.
Надежда Александровна глубоко вздохнула и с чувством посмотрела на потолок.
Она рассчитывает высылать ему половину своего жалованья. Я пока не буду высылать своим половины жалованья: а вот когда устроюсь, перевезу всех к себе. Надежда Александровна тогда непременно поселится с нами. Заживем чудесно! У меня большой огород будет. Ну, вероятно, садик… В Малороссии всё садики. Зимою — педагогические занятия, а летом — хлебопашество… Может ли быть что лучше такой мирной, трудолюбивой жизни? Организм здоров, грудь дышит свободно, душа не страдает…
— Вы забыли чувства человека, который уплачивает старинный, мучительный долг!
Надежда Александровна тряхнула волосами и снова уставилась в окно. В ее жесте и тоне голоса промелькнуло что-то странное, мрачное, и на секунду я как будто потерял все свои точки соприкосновения, хотя о теоретическом разногласии не могло быть, конечно, и речи; но это было только на секунду. Я переменил разговор, и дело снова пошло как по маслу.
До такой степени как по маслу, что часа через два она пересела на мою скамейку, и мы поочередно спали друг у друга на коленях, то есть, конечно, подушка лежала на коленях. По правде сказать, я только притворялся спящим, и мне это стоило значительного труда; но Надежда Александровна ни за что не хотела пользоваться моими услугами без соответствующего вознаграждения с своей стороны. Сама она спала крепко и спокойно, согнувшись калачиком и подложив руку под щеку. У нее был очень красивый профиль и длинные черные ресницы. Волоса покрыли почти всю подушку, мерно вздрагивала голубая жилка на розовом виске, по лицу бродила беспечная, детская улыбка, и только во лбу и резко очерченной брови было что-то холодное и суровое.
На следующий день, вечером, мы уже ехали по проселочной дороге, и я заботливо поддерживал ее за талию, предвидя возможность падения. Узенькие, сильно скрипевшие на морозе дровни то и дело закатывались по неровной, ухабистой колее. Пара тощих, мохнатых и заиндевелых лошадок, в пеньковой упряжи, медленно везла нас мелкой рысцой, выдыхая густые клубы пара. Возница, подросток лет четырнадцати, в нахлобученной по самые плечи шапке, рыжей свитке, шерстяных рукавицах и огромных сапогах, большею частью бежал рядом и усердно хлестал кнутом лошадей, желая согреть руки. Легкий стук некованых копыт и скрип полозьев громко раздавались в необыкновенно тихом воздухе. На ясном небе горели частые звезды и рожок новой луны; Млечный Путь блестящей полосой прорезывал небосклон. От нашей группы на снег падала короткая и резкая тень. Кругом ни одного темного пятна; один только бесконечный, ослепительный снег, сверкающий голубоватыми искорками.
— Не правда ли, — великолепная картина? — спросил я, стуча зубами.
Надежда Александровна не отвечала.
— Вы спите? — Я нагнулся к ней и слегка потряс ее за плечо.
Она открыла отяжелевшие веки и произнесла лениво:
— Нет, не сплю. Но что же мне ответить на ваш эстетический вопрос? Для меня эта картина будет великолепною только тогда, когда люди не будут зябнуть, вот как этот. — Она указала глазами на кучеренка и затем обратилась к нему: — Мальчик! как тебя звать?
— Чого? — Он повернул к ней свое маленькое покрасневшее лицо.
— Чий ты? — поправил я.
— Филипив. Филипа Кривого.
— А як тебе батько зове?
— Петром.
— Возьми платок, накройся! Тебе холодно?
Надежда Александровна хотела сдернуть плед, которым были окутаны наши ноги, но Петро решительно ответил: «Не треба!» — ударил по лошадям и сел на мешок соломы, заменявший козлы.
Мы замолчали. Надежда Александровна минут пять напряженно смотрела вдаль из-под надвинутого на глаза платка и крепче засунула руки в рукава серого драпового пальто, очень мило скроенного, но слишком легкого для такой погоды; потом она зевнула, вытянулась, закрыла глаза и склонила ко мне на грудь голову. Я принял более удобную для такого положения позу и взял ее руку. Рука, узкая и длинная, горела, как у лихорадочного. Надежда Александровна, казалось, не сознавала этого прикосновения, да и я сам начинал терять сознание. Мне вдруг стало тепло, лень и нега разлились по всему телу, глаза слипались, голова опускалась… Фактически, впрочем, поцелуя не могло выйти, потому что у Надежды Александровны рот был закрыт платком, а у меня на усах образовалось два больших куска льду. Но я все-таки замирал с единственною ясною мыслью, что влюблен по уши.
Читать дальше