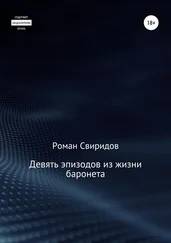Такова именно была Анна Михайловна. Блондинка, высокого роста, умеренной полноты, стройная и грациозная. Я сразу почувствовал к ней самое дружеское расположение. Но не подумайте, что она также сразу отвечала мне тем же. О, женщины лет за тридцать часто играют нами, молодыми людьми, как кошка с мышкой, в особенности ежели уверены, что мы от них не уйдем. Она сначала была со мною очень холодна. Самые официальные, вежливые отношения. Как Коля? как я его нашел, как я думаю заниматься? нравится ли мне в деревне и прочее. Это с некоторыми варьяциями шло довольно долго. Я, конечно, был в восторге от деревни.
— О, погодите еще восторгаться, — заметила с улыбкою Анна Михайловна, — заскучаете. Но вам будет с кем разделить скуку: вон девица, которая тоже не знает, куда деваться от скуки…
И она указала глазами на молодую девушку лет семнадцати, маленькую, с большими пугливыми черными глазами и бледным, серьезным лицом. Это была ее племянница, Марья Андреевна. Она как-то удивленно взглянула на Анну Михайловну и немедленно вышла.
— Вот ухаживайте за нею, — продолжала Анна Михайловна, понижая тон и сопровождая девушку взглядом, — кстати, она, кажется, к вам благоволит. Вы заметили на ней красный бант?…
При этом глаза Анны Михайловны испускали такие лукавые искры, углы губ так приятно вздрагивали, а маленькая нога в щегольском ботинке так любопытно выглядывала из-под белоснежной юбки, которая в свою очередь выглядывала узенькой каймой из-под темного платья, что я готов был растеряться. Надо вообще заметить, что в любви играет большую роль то, как, насколько и какого вида белая юбка или обшивка выглядывает из-под платья, как подхватывается шлейф и насколько тогда видны ноги. Дамы делают большую ошибку, когда надевают цветные чулки. Анна Михайловна не делала ошибок и во всем прочем могла считаться образцом безукоризненности.
В ее отношениях к Марье Андреевне я сразу заметил «старинный, вечный спор, уж взвешенный судьбою» женщины лет за тридцать с молодою девушкою. И могу отдать себе справедливость, мне бывало очень неловко, когда он обнаруживался. С одной стороны, мне жаль было Марью Андреевну, которая, как младшая по летам и положению в доме, видимо страдала, а с другой стороны, мне неловко было за самое Анну Михайловну, которая обнаруживала… как бы деликатнее выразиться — то, что лучше всего назвать «бабьем». Согласитесь, что это обидно: такое художественное, прекрасное создание — и наполнено бабьем! К несчастью, оно проявлялось очень часто. И притом эти зевки! Вечная спячка, равнодушие… Скажет слово, два, затрепещет жизнью, окатит словно огнем — и зевает! Вы догадались, что я стал ее ненавидеть. Тогда я хорохорился и воображал себя очень сильным в рассуждении сердца, но скоро убедился, что ненавидеть женщину — последнее дело. Хуже быть не может. И как она тонко поступала! Она, можно сказать, не обращала на мою ненависть ни малейшего внимания. Холодное, спокойное величие, аромат внешней чистоты и порядочности. Удивительное, право, дело — эта любовь! Кто бы, например, мог поверить, что чистая скатерть за столом, блестящие салфетки, сверкающий прибор, зеркальный паркет, равнодушные зевки хозяйки, крайнее приличие всей обстановки — всё то, что «молодой человек» значительною частью отвергает в принципе, — что это именно больше всего и распаляет страсть «молодого человека»!
Очень полезно также предлагать молодому человеку кататься, причем надо дать почувствовать, что его берут так, лишь бы торчал кто-нибудь; что когда его не было, то торчал какой-нибудь Сергей Федорович или Федор Сергеевич. Уморительный человек! Выпучит глаза и смотрит, не пошевелится, а голос так и дрожит, и колени так и трясутся… Ведь есть же такие люди! Но пускай, пускай его себе кипятится молодой человек. Пусть ему кажется, что на лице у кучера, важно растопырившего руки, непременно должна быть нарисована ирония; пусть ему кажется, что пристяжные, выбрыкивая, махая хвостами и поворачивая головы в стороны, делают это неспроста, что они заглядывают в экипаж и думают: «Эх, куда это едете вы, беспутные!» Пусть он себе думает, что ему угодно: когда его ненависть дойдет до крайних пределов, он, дрожа и задыхаясь, упадет пред женщиной лет за тридцать на колени!
Или хорошо предложить молодому человеку гулять вечером, при луне, в поле (там ведь как-то просторнее, а то этот сад ужасно надоел), конечно, ежели он не устал, потому что в крайнем случае можно и без него обойтись. Но молодой человек не только не устал, но и сам рассчитывал пройтись и именно в поле. Поле залито серебряным светом луны; легкий, прозрачный пар покрывает его ширь, свежий запах наполняет воздух, и, Боже сохрани, если где-либо поблизости заливается соловей! Ясное дело, что они идут под руку. Где-нибудь во ржи послышится шорох, сова неслышно пролетит мимо, какой-то мягкий, гармонический звук донесется из-за далекого озера — она вздрогнет и ближе прижмется к молодому человеку… Он чувствует прикосновение ее роскошной, теплой груди, и температура его тела поднимается до точки кипения. Он хочет говорить, но слова не идут с языка. Он замер, оцепенел в наслаждении. Она сама заговаривает. Она берет за тему какие-нибудь незначительные предметы, говорит ровно, спокойно, но в тоне ее слышится уже доверие… Ага! и ты наконец не выдержала! Завтра ты заговоришь о любви, в твоем тоне послышится еще большее доверие; потом ты станешь жаловаться… Это минута торжества, упоения… «Черт вас возьми, степи, как вы хороши!..» Если б в этом восклицании не «степи», то оно как нельзя лучше выражало бы мое мнение о таких прогулках.
Читать дальше