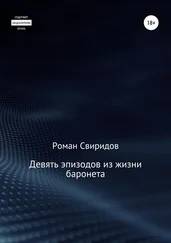— Какой тебе хутор примерещился? — спросил после продолжительного молчания Злючка. — Я никакого хутора не видал.
— Хутор подальше. Но я узнал это место на речке; я там плотину делал.
— Из чего делал? — заинтересовался он, в одну минуту забывая все труды и опасности.
— Из камней и земли; только вода размывала.
— Еще бы не размыть! Без веток размоет. Надо веток положить. Давай сделаем!
И мы наломали веток кустарника, натаскали камней, построили прекрасную плотину и со смехом смотрели, как вода прибывала, поднималась, сердито бурлила и наконец с торжеством уносила наши сооружения.
Выбившись из сил, мы сели в тени, под большим камнем, и съели свою провизию. Бурная веселость сменилась более серьезным настроением духа, как это и подобает путешественникам в отдаленную страну. Злючка даже насупился и принял очень суровый вид.
— Злючка, давай разведем костер! Он строго вскинул на меня глазами.
— С ума ты сошел, что ли? Когда тут костер? И так сколько времени потеряли! Вот отдохнем — и в дорогу; не близко ведь.
— Так мы разве вправду? — смутился я от его решительного голоса.
— Что-о? Да с тобой, брат, кажется, каши не сваришь. Оставайся, что ли, баба!
Он взялся за свою котомку и приподнялся. Я схватил его за полу шинели.
— Полно, я пошутил… Сиди, отдохнем еще.
— Впрочем, пожалуй, разведем, — смягчился смелый путешественник, усаживаясь снова.
Мы наломали веток, нашли на дороге охапку соломы, развели костер и расположились около. Маленькое пламя бледно вспыхивало при освещении еще не совсем спрятавшегося солнца; густой дым красноватым столбом поднялся кверху. В ближайшем кусту что-то как будто зашевелилось; вдали послышался протяжный крик. Я вздрогнул.
— Чего боишься? — успокоил меня товарищ. — Пастух кричит.
— Я не боюсь. Послушай! там индийцы есть?
— Конечно, есть…
— Они как: храбры?
— Беда! Ружья, однако ж, боятся. Ты ему ружье покажешь — он и убежит. Ну а если из-за куста подстережет — тогда, брат, плохо…
— Убьет? — спросил я, тщетно силясь скрыть дрожание голоса.
— Убьет, — уверенно подтвердил Злючка. — Но нас они не тронут: за что нас трогать? Мы их не тронем — и они нас не тронут.
Мы помолчали.
— Ну а тигров много?
— Там, брат, тигров, что у нас собак. Но если костер развести — они не тронут: боятся.
Я посмотрел на костер, подбросил несколько веток и задумался. Я думал о доме, о матери, о Наде… Что-то они теперь делают? Чай пьют, должно быть. Кате повязали салфетку на шею; она сидит на высоком стульчике за чайным столом, болтает ногами и капризничает. Надя ее успокаивает; мать намазывает масло на хлеб. Самовар пыхтит и волнуется, а собачка Мурзик забегает со всех сторон и виляет хвостом. Отец раздражительно кричит из своей комнаты, чтоб ему налили покрепче. Дети притихают… А может быть, мать теперь сидит в углу и заливается, плачет…
— У тебя есть мать, Страшилин?
— Нет; отец есть.
— Тебе его не жаль?
— Нечего жалеть: только и знает, что драться. — Он сжал губы и посмотрел вдаль.
— Ну а мне так очень жаль мать, — мечтательно произнес я.
— Мать-то? Да ведь она у тебя пьяница!
Я с удовольствием провалился бы сквозь землю от этих слов. Мне в эту минуту опротивела Америка, опротивел Злючка; я сам себе казался противным. Убежать бы куда-нибудь! Спрятаться ото всех! нырнуть в воду, закопаться в какую-нибудь яму, чтоб люди проходили и не замечали моего существования. Я низко опустил голову, и слезы обиды, унижения, досады обильно закапали по моему пылавшему лицу.
— Да она, может, с горя? — непривычно мягко осведомился Злючка, искоса посматривая на меня.
— Ах, с горя, с горя! — обрадовался я, чуть не бросаясь к нему на шею.
— Ну так это ничего… С горя, брат, запьешь. Наш дьякон тоже выпивает с горя. Так, говорит, у тебя сосет, так сосет…
Я не был расположен продолжить разговора. Мы замолчали и скоро заснули крепким сном. Когда мы проснулись, на небе светила луна, перед нами стояла гимназическая повозка, а на ней восседал надзиратель.
Нас ближайшею дорогою отвезли в карцер.
Я сел на знакомый уже сундук и предался меланхолическим размышлениям. Меня начинал тяготить Злючка. Он меня как будто поглощал, давил; он уничтожал во мне мою собственную личность. Но не успел я еще порядком, как говорится, распустить нюни, как дверь карцера вдруг отворилась, вошел сторож и за ним еще какая-то маленькая фигурка… Эта фигурка бросилась мне на шею, и мы разрыдались. То была Наденька. Я забыл сказать, что оставил ей записку, в которой объяснял и оправдывал свое исчезновение.
Читать дальше