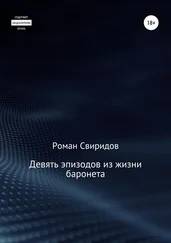— Примете ли меня, добрые люди?
Ну, тут, можете себе вообразить, — сцена.
— Паранька! Милая моя! бесценная! — крикнула жена и бросилась ей на шею. Та, с своей стороны, — визг, гвалт, слезы, словно еврейки на ярмарке.
— Да ты бы ее в комнату ввела, переодела да чаем напоила! — напомнил я жене, потому, признаюсь вам, мне самому стало жаль девку.
Ну, переодели ее, вышла она в первую комнату — эге-ге! куда что девалось! Глаза большие, смотрят боязливо и ласково, на женины стали похожи, хотя у той голубые; осунулась вся, покашливает, волосы — смотреть не на что; а была, доложу вам, косища по пояс!.. Но позвольте мне минутку отдохнуть. Я покурю и соберусь с мыслями, — заключил Живучкин. — Ицко! — обратился он затем к шинкарю, — вынеси-ка моему дураку рюмку водки, а то он там, чего доброго, расплачется…
Из всех поэтически уединенных избушек-«шалашей», к которым так часто стремятся мечты романических девиц, когда у них заведется «милый», а следовательно и немедленное поползновение к глубочайшему уединению вдвоем, самая поэтическая, несомненно, та, в которой обитал Марк Силыч Абрамов. Она даже на избу не похожа, а представляет по виду круглую кучу соломы, потемневшей от времени и кое-где поросшей нежною травкою. Стены низки и подходят цветом к крыше, а оконца так малы, что их можно заметить только в нескольких шагах расстояния; что же касается до трубы, возвышающейся как раз посреди крыши, то она так хитро сплетена из хворосту, что даже в нескольких шагах нельзя разобрать, заправская это труба или гнездо аиста. С заднего фасада к избе приросли два грибообразных сарайчика. И вся эта живописная группа соломенных кучек как бы брошена сверху на маленькую полянку огромного дубового леса.
Марк Силыч имел обыкновение просыпаться раньше своего петуха, восседавшего вместе с шестью хохлатыми курицами на лестнице чердака, в темных сенцах. Но с некоторого времени, а именно, чтоб не соврать, этак с конца лета, и в особенности накануне первых чисел, он (кажется, с петухом нельзя смешать), можно сказать, не спал ночи напролет и беспокойно ворочался на своей постели, пока не забрезжут первые лучи начинающегося дня и не осветят весьма оригинального беспорядка в обиталище полесовщика. Марк Силыч занимал именно это скромное социальное положение в одном из лесничеств N-ского товарищества. Эти первые лучи начинающегося дня заставляли Марка Силыча порывисто вскакивать с теплого ложа, раскинутого на земляном полу, в углу, и такого состава: охапка сена, прикрытая старым мешком, вместо подушки и бурка вместо одеяла. Расставшись с постелью, Марк Силыч протягивал руку к опрокинутой вверх дном кадке, где лежали принадлежности его туалета, и начинал одеваться. Если мы теперь застенчиво отвернемся от него, то заметим прежде всего большой ушат у кухонной печки. Это одна из самых видных вещей в горнице. Она служит Марку Силычу две службы: во-первых, он умывается над нею по утрам, набрав в рот воды, а во-вторых, кормит из нее свою свинку Машку, собственноручно накрошив туда крапивы и прочей дряни, обмешав отрубями и облив водою. Затем, по реальному значению и художественной рельефности, следовал маленький стол, накрытый грубой скатертью, и низенькая вбитая ножками в землю скамейка около. На столе стояла большая глиняная кружка с водою. Другой мебели и посуды не было, если не считать полуштофа водки, хранившегося в печке, за заслонкой, вместе с огромным ломтем хлеба, разрезанного на части и густо обсыпанного солью. Хлеб был спрятан в печку во избежание поползновений на него со стороны мух, а подчас и воробьев. Марк Силыч по утрам выпивал рюмку водки и закусывал хлебом вместо чаю, который был ему не по средствам.
Но вот он, одетый в свой единственный костюм и вместе как бы форменный мундир, с медным рожком через плечо, с великолепной нагайкой из козьей ножки в руке, верхом на серой кобыле. На нем большие сапоги, соломенная шляпа собственного изделия, покрывающая огромными полями его продолговатое загорелое лицо, обрамленное густою русою бородою, затылок и даже часть груди, виднеющейся из-под грубой малороссийской рубахи, и, наконец, старая визитка, куцая и рыжая, как спелая греча. Если б ему хорошая кобыла, то он положительно имел бы бравый, внушительный вид. Но, к несчастию, данная кобыла безнадежно подгуляла: не говоря уж о хромоте на обе передние ноги, она, кроме того, отличалась такою редкою худобою, что седло приходилось ей не впору, и Марк Силыч принужден был довольствоваться одною седельною подушкой с перекинутыми через нее стременами.
Читать дальше