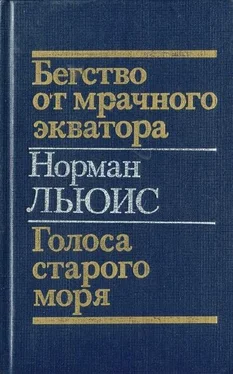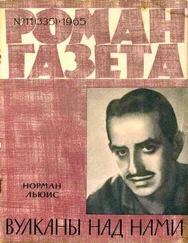Хуану было жалко, что приезжий потерял столько времени, и в утешение он предложил ему два беспроигрышных варианта: ночью можно поставить переметы, а на рассвете — половить сетями златобровку, но тот отклонил оба этих заманчивых предложения.
Летрель досаждал рыбакам своими расспросами; очевидно, ему хотелось побеседовать с народом, но его попытки потерпели крах: фарольцы смотрели на всех пришельцев с врожденным недоверием. На следующий день после неудачной рыбалки я пошел в кабачок, где снова встретил Летреля. Я спросил, не хочет ли он еще разок попытать счастья, но он ответил, что нет.
Он поинтересовался, долго ли я живу в Фароле, и я сказал, что второй сезон. Не кажется ли мне, что люди здесь замкнуты и необщительны? Да, весьма. Кроме того они бескорыстны, благородны, поэтичны и очень суеверны. Удалось ли мне их понять? Нет, не до конца, хотя кое-что мне уже ясно.
Затем Летрель сказал, что у него ко мне есть одно крайне конфиденциальное дело. По просьбе своих друзей он пытается выяснить, что случилось с неким Мариано Оливером, жившим некоторое время в Фароле и пропавшим без вести в 1939 году, в самом конце гражданской войны.
Я сказал, что в прошлом году здесь была полиция, и следствие по этому делу ведется — в Летреле я заподозрил шпика, которых в те годы в Испании было едва ли не больше, чем честных людей.
Летрель пояснил, что действует исключительно из добрых побуждений. Семья Мариано Оливера хочет знать, жив ли он. Ничто другое его не интересует.
Он сказал мне, что настоящая фамилия пропавшего без вести — не Оливер, а другая, и он отпрыск благородного семейства. Это был беспечный и испорченный юнец; в начале тридцатых годов его осудили за убийство, но суд не мог установить мотивы преступления — Мариано убил человека из жажды острых ощущений, находясь под впечатлением широко разрекламированного убийства, совершенного в США из тех же побуждений. Его родители были очень влиятельные люди, и шумихи удалось избежать. Его признали невменяемым, для порядка продержали два года в тюремной психиатрической лечебнице, где за ним ходил его же лакей, а затем выслали в Фароль с глаз долой. Его дальнейшая жизнь покрыта мраком неизвестности, никто из деревенских не хотел о нем говорить, в чем я успел убедиться; я знал лишь, что он построил какой-то необычный дом и собственноручно разбил сад, тоже странный и запутанный. От дома остался один фундамент; сад сохранился, но клумбы и оросительные канавки заросли сорной травой. Казалось, деревенские сделали все возможное, чтобы забыть человека, которого прозвали здесь Мариано-Садовник.
Это классическая детективная история, сказал Летрель, и чем больше он вникает в нее, тем больше она его интригует. Всю войну родные Мариано Оливера регулярно получали от него письма, и несмотря из то, что до конца войны он находился на территории, занятой республиканцами, умудрялись пересылать ему деньги даже через линию фронта. После разгрома республиканцев в начале февраля 1939 года переписка оборвалась, но затем через несколько месяцев опять стали приходить письма, но уже из Франции. Никаких подозрений его письма не вызывали: как всегда, он подписывался «Пен» — так звали его домашние. Пен писал, что вместе с потоком беженцев он ушел через границу во Францию, где, но-видимому, ему придется задержаться на некоторое время.
Напрашивался вывод, что он скомпрометировал себя сотрудничеством с республиканским режимом.
Письма шли два года, и постепенно стали закрадываться сомнения. Семья Мариано была достаточно влиятельной и смогла бы без труда выхлопотать ему амнистию, что бы он там ни натворил; его уговаривали вернуться, но он не соглашался. Во Франции он переезжал с места на место, постоянно меняя адреса, по которым высылались письма и деньги. Отец хотел съездить во Францию повидаться с ним, но Мариано отклонил это предложение под каким-то маловразумительным предлогом.
Семья обратилась к частному сыщику; тот изучил все письма Мариано, как старые, написанные еще в Фароле, так и недавние, полученные из Франции. Он пришел к выводу, что, по всей видимости, французские письма подложные. Он исходил не из сличения почерков и подписей — эксперты-графологи признали их идентичными, а из особенностей эпистолярного стиля. Если судить по фарольским письмам, Пен был не прочь пошутить, любил каламбуры и игру слов. Письма же из Франции были сухи и безлики. Их автор, сказал сыщик, лишен чувства юмора.
Читать дальше