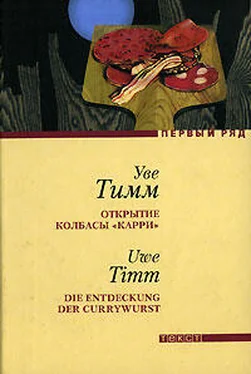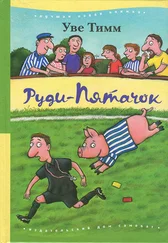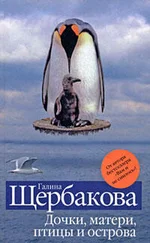Сквозь завесу дождя проступают очертания каботажного судна. Оно медленно движется в направлении гавани. С него подают световой сигнал: три короткие вспышки, две длинные. Гари достает карманный фонарик и отвечает четырьмя короткими вспышками и одной длинной, затем подходит ближе к этому кораблю, в самый конец кормы, баркас нещадно качает. «Теперь, – громко кричит он, – теперь лови канат!» Оттуда бросают канат. «Закрепи его и как следует пришвартуйся!» Мой отец научил меня вязать любые узлы, он ведь плавал на эвере [11]; итак, я закрепляю канат, промокнув до нитки от дождя и морских брызг, а Гари все время нещадно крутит штурвал и держит баркас так, чтобы его не захлестнули волны. И вдруг «плюх» – что-то летит через борт. Большой корабль разворачивается. «Давай, – кричит Гари, – тяни!» Я тяну что-то желтого цвета. Голубушка, Лена, проносится у меня в голове, так ведь это же человек в спасательном жилете, какое бледное у него лицо! Господи, похоже, ребенок, и я в ужасе кричу. «Ты что орешь, – рычит Гари, – давай, черт возьми, пошевеливайся! Почти уже вытащили!» Я продолжаю тянуть и подтягиваю к баркасу какой-то тюк. «Еще чуть-чуть!» – не унимается он. И тут я выуживаю из воды что-то светлое, какой-то клеенчатый пакет. Я сразу поняла, что это и чем занимался Гари: контрабанда.
«Что здесь?» – поинтересовалась я, когда снова оказалась рядом с ним в рулевой. «Ничего, – ответил он, – ты ничего не знаешь и ничего не видела». Я замерзла, поскольку промокла насквозь. Меня била дрожь, даже зубы стучали. Гари обнял меня за плечи и принялся насвистывать. У него было хорошее настроение. Он уже не крутил туда-сюда штурвал, потому что мы шли попутным ветром и волны лишь догоняли нас. Потом мы отправились к «Тетушке Анни». Там пакет забрал какой-то парень, немногословный верзила. Мы выпили по стакану грога. Потом по второму. Гари играл разные мелодии на расческе. «Что ты хочешь, чтобы я сыграл?» – спросил он. «Ла Палома», – ответила я. Он играл на расческе, как никто другой. Положив на нее полоску папиросной бумаги, он играл «Интернационал», «Братья, к свободе и свету» и разные шлягеры. Мог бы выступать в варьете. Он никогда не учился музыке, ни на каком инструменте. Умел только на расческе. Но так, что женщины не могли совладать с собой и вешались ему на шею. Он все чаще заводил на стороне шашни, этот лорд с бродячего судна. Порою пропадал по целым ночам, потом возвращался, забирался в теплую кровать и требовал от меня исполнения супружеского долга. И лгал. Говорил, что ничего, мол, нет, умолял верить ему, обнимал. И я верила, потому что хотела верить. Наперед знала, что все останется по-прежнему, если скажу, что не верю его лживым заверениям. К чему было обольщаться?
– Любовь прекрасна, потому что объединяет двоих, но она причиняет и страдание, – сказала фрау Брюкер, – потому-то и трудно расстаться друг с другом. Большинство решается на такой шаг, лишь когда другому находится какая-то замена и можно опять быть вдвоем.
Она лежала рядом с ним и не могла уснуть; с той поры она точно могла сказать, когда он проваливался в глубокий сон, когда грезил и когда храпел. Всему был свой черед. Ну а тогда, по завершении плавания по штормовой Эльбе, они заявились домой рука об руку и немного навеселе от грога. Платье насквозь промокло, но ей не было холодно, тепло шло откуда-то изнутри и разливалось по всему телу. Он любил ее такой.
А два месяца спустя, вечером, когда он сидит на кухне, пьет свое любимое пиво, заедая жареной картошкой, раздается звонок и на пороге появляется криминальная полиция. Его сразу же забрали. Он получил три года. Отсидел один. Но с должностью капитана баркаса пришлось распроститься. На его счастье, у него были еще водительские права на вождение грузовиков. И он стал разъезжать по всей стране. Капитан проселочных дорог. Ездил в Данию, Бельгию, но большей частью – в Дортмунд и Кёльн. И тут у него завелись разные женщины. Приходил домой, только чтобы поменять белье.
– Он был, – она запнулась и уставилась на меня подернутыми голубовато-белесой пеленой глазами, – настоящий негодяй. Ты, верно, думаешь, что я наговариваю на него, не-а, ничуточки, он взаправду был негодяем, но этот негодяй отменно играл на расческе.
Все это она именно так рассказывала мне, видимо, то же самое она говорила и дезертировавшему Бремеру, который делил с ней ложе на матрасах в кухне, но тогда она, наверно, лишь изредка прибегала к местному наречию, а вот в старости это случалось чаще; так было и у моей матери: чем старше она становилась, тем больше в ее речи встречались гамбургские словечки. А что же Бремер? Бремер лежал на полу и слушал. Ему было всего двадцать четыре, так что он мог рассказать, разве только несколько военных историй, которые она не захотела слушать. Но просто лежать рядом с ним было приятно. Ощущать своим телом его тело. Ведь можно разговаривать друг с другом, даже не произнося при этом ни звука.
Читать дальше