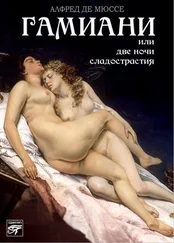Для чего же был убит мой отец? — с холодом и звоном в голове думал он. — Для чего в Карелии погиб мой дядя, а в Кенигсберге двоюродный брат? Зачем были убиты Халов под Сычевкой, Василий где-то у Днепра, а Лена там, тогда, в ту ночь, на крыше? А эти тысячи и тысячи в шинелях, зарытые где попало, разбросанные по всей великой земле, уже превратившиеся в прах, в землю, уже ставшие планетой, Землей — они, убитые сразу и не сразу и умершие потом в жарких муках, убитые в жару, летом, зимой, когда их трупы неделями костенели в сугробах, осенью в грязи — за что?
А за то, — яростно подумал он, — чтобы вот я сейчас сидел в каюте с этой женщиной, чтобы я, тогдашний мальчик, теперь встал на их место и чтобы был Крым, который им уже не увидеть, но который вижу я, чтобы была вот такая звездная ночь, чтобы люди ночью спали, а днем работали, чтобы я мог думать и любить кого-то, чтобы я зачал новую жизнь и сделал все, чего не доделали они!
Чем же я отплачу им за свою жизнь, когда я все больше забываю о них, как и вообще о всех предыдущих поколениях, каким же я должен быть умным, сильным и мужественным, чтобы жить теперь, чтобы знать все о своей земле, и быть верным моему отцу, моему великому рабочему, и не дать ему погибнуть в себе, хотя в его могиле от него, верно, уж и костей не осталось, а ведь я вышел из него, и я с матерью, с маленькой сероглазой тихой женщиной, был где-то далеко позади него, когда он, думая о Родине и включая и нас в эту Родину, перебегал где-то на Украине от ямки к ямке, от окопа к окопу, ползал, лежал, пережидая бомбежки и минометные шквалы, вскакивал, стрелял, рыл землянки, переобувался, писал письма и думал о мире, когда он наконец сможет снова начать свою бесконечную и великую работу, пока наконец не погиб, и неизвестно даже, пулей он был убит или осколком, и как умер — сразу или мучился, и о чем передумал за время между тем мгновением, когда металл разорвал его тело, и мгновением, когда вздохнул последний раз на земле?
Так вот, спасибо ему, спасибо, что встретил он мою мать и полюбил ее когда-то и когда решил, что мне быть, а ведь я мог и не быть, за то, что за свою короткую жизнь успел сделать столько вещей, столько успел переработать металла и дерева, что и сейчас, наверное, где-нибудь снует, вертится, ходит в масле какая-нибудь деталь, сотворенная им, или, крепко стиснутые в бетоне и кирпиче, хранят свой вечный покой рельсы и балки, сваренные, согнутые, склепанные им!
[ 60-е — 70-е гг. ]
Зависть [ 8 ] «Простор», 1965, № 1.
Мы уезжали тогда из Кракова в горы, и с этим нельзя было ничего поделать. Поезд стоял уже возле перрона, все вагоны исходили паром, кисло пахло перегорелым антрацитом, на туристском вагоне на стеклянных дверях налеплены были изнутри бумажки «Занято!», и нам нельзя было уже раздумать и остаться.
Была вторая половина дня в феврале, и понемногу темнело. На перроне лежал исслеженный сырой снег, дул ветер. Туристы стояли кучкой возле зарезервированного для них вагона, подняв воротники, отворачивались от ветра, ждали свои вещи. Наконец вещи привезли, и все нетерпеливо полезли в вагон. В вагоне было тепло, и еще светло от больших промытых окон, и уютно от кресел с высокими откидными спинками.
Я, как всегда, сел вместе с инженером из Подольска. Хотя сейчас мне хотелось сесть с Зиной. Зина была учительница из Томска, и когда я думал о Томске и что я туда вряд ли когда попаду, и еще когда я вспоминал вчерашний вечер, — а вчера вечером я выпил сильно и что-то сказал или сделал этой Зине, что-то глупое и пьяное, — мне становилось жарко и стыдно. И потом я представлял себе Томск и думал: «А, черт с ним! Она в Томске, я на Севере... Да! И потом, стыдно за вчерашнее, и я скотина!»
Группа туристов была большая, я никого не знал, не сошелся ни с кем за две недели, потому что не острил, не хохотал и не пел в автобусах вместе со всеми массовых песен. Да и редко бывал с группой, больше все бродил просто по улицам — музеев я терпеть не мог. Но в гостиницах я все время оказывался в номере вместе с этим подольским инженером, а инженер был прост, вежлив, не лез в душу, не дурак был выпить, и с ним было хорошо.
Но все-таки вчера вечером я не удержался, стало мне скучно одному, пошел я искать по гостинице эту самую Зину, повел ее в «Цыганерию», выпил там, и она мне вдруг страшно понравилась, — такая была умная, кроткая, — и стал городить ей всякую чушь про Север, про ездовых собак и все хотел целоваться с ней во время танцев.
Читать дальше
![Юрий Казаков Две ночи [Проза. Заметки. Наброски] обложка книги](/books/288695/yurij-kazakov-dve-nochi-proza-zametki-nabroski-cover.webp)