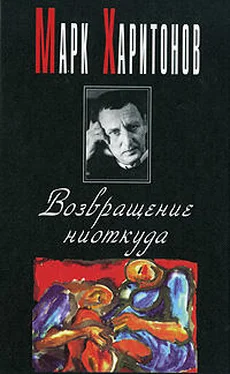Оборвалось, продолжает рваться, белые светящиеся концы шевелятся в темноте, на дне бесполезных, беспомощных глазных яблок, у самого мозга, не могут соединиться.
Мама! Где мама? Мне надо было ее найти. Я потерял ее или потерялся сам. Я не понял, не помнил, в какой миг и как она исчезла, наряженная точно для торжества, растворилась, как в детском страхе, в обрушившейся темноте — все в ней смешалось, спуталось, закрылось для понимания и для глаз. Я не мог ее даже позвать, крикнуть, голос совсем уже не выбивался наружу, воздух его не принимал, не вмещал больше ничего, забитый сплошь чужим, но вылезавшим как будто все равно из меня, только не из горла, а прямо из болезненных щелей головы вместо собственных мыслей, они окончательно перестали мне подчиняться — тонкие, короткие, спутанные клубком обрывки выдавливались, расползались сами собой и заполняли непроницаемую черноту, бессмысленные слова растворялись в скрежете, хрипе и скрипе переродившейся музыки, а я блуждал наугад среди этой мучительной, навязчивой мешанины, тыкался из темноты в темноту, не зная, где искать, только напоминая себе, что должен искать, мне надо было кого-то найти…
Шевелятся, дергаются яркие волосяные щупальца, никак не соединить их, не составить порядка и связи.
Слабый ореол, как воспоминание на исподе век. Внутри него накаляется все черней угол стены. Там во дворе костер. В багровых отсветах всклокоченные волосы, влажно блестящие выпученные глаза, жующие, зубастые, осклабленные, неузнаваемые рты, полузнакомые лица, изображенные на упаковочном картоне бородатым соседом-художником: он, наконец, в самом деле вынес, поспешил спасти из ненадежных, опасных стен единственную свою потайную ценность, и теперь смотрел бессильно, в растерянности и смущеньи, как создания его переходят из рук в руки, под пьяный гогот и похабные комментарии, смотрел, не понимая ропота совершающейся беды, не узнавая того, что возвращалось к нему. Словно что-то менялось там от чужих взглядов или перегарного дыхания, что-то происходило на открытом воздухе, в неверных отсветах близкого огня с самодельными красками, с миром, сотворенным из окружающего материала и трепетных снов, выписанные подробно одежды расползались гнилыми неровными кружевами, на коже гладких румяных лиц проступали как бы пятна язв, поверхность шла мелкими гноящимися пузырьками, под ней открывались то ли воспаленные внутренности, то ли подмалевок первоначальной работы, очертания и фигуры, о которых, возможно, забыл или не подозревал сам художник (сквозь некоторые уже просвечивала пустая плоскость без горизонта). Распадалось и обнажалось то, что было так искусно и тщательно оформлено, упаковано в необходимую щадящую оболочку, чтобы взгляд мог остановиться, где нужно. Веселый оскал был вставленным в живое лицо протезом из прочного нетленного материала, а рот вокруг все заметней проваливался, и череп все чувствительней расползался по трещащим кривым швам от крика и хрипа выползающей, нарастающей боли, она продолжала выпирать из щелей и отверстий, подменяя музыку, заполняя глохнущее пространство — музыканты на площади лишь надували щеки, изображая усилие игры, металл их инструментов размягчался и оплывал: звучали не они.
На площади, у подножья памятника. С постамента осыпались буквы, памятник забыл свое имя, призывная бронзовая рука его все явственней опускалась от долголетней усталой тяжести вещества и никуда теперь не указывала, скорей готовилась просить подаяния. Там танцевали, топтались кто во что горазд, пьянчуги с лицами знакомых сборщиков бутылок. Кружилась, выставив перед собой палку, выжившая из ума старуха в двух халатах разного цвета, лиловом поверх зеленого. Воняющий мочой бродяга, упершись руками в асфальт, пытался изобразить фигуру виртуозного брейка. Женщина с румянцем и черными губами пошла навстречу мне, радуясь встрече, кривляясь и приподнимая в горстях, как приношение, голые груди, улыбка на ходу расползалась вместе с лицом…
Но я уже успел спрятался опять в темноту.
В ту же или в другую? Какая была раньше, какая потом? Все было перемешано, копошились оборванные концы. Из темноты в темноту. Мне надо было найти маму, и не только ее, это я помнил; мне что-то надо было восстановить, вернуть. Я что-то сделал не так, с чем-то не сумел справиться, и вот она пропала, исчезла вместе с серой старухой, которая сумела так хитро проникнуть в мой мозг, но оказалась подмененной, как библиотечные книги, она унесла маму на руках, словно похищенного ребенка, прямо сквозь осыпь стен, в непроницаемое для света хранилище, где теперь не стало перегородки между бумагой, еще пытавшейся удержать последний членораздельный смысл, и завалами уже размягченного, как гибнущий мозг, вещества, только туда больше не было входа, он тоже был утрачен в темноте.
Читать дальше