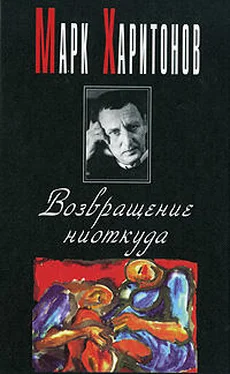Он сидел, откинувшись, против мамы, спиной к двери. Заплывшие глазки не сияли, а сочились наслаждением от полноты жизни. Но мама теперь смотрела куда-то мимо него — я еще не проследил направление ее взгляда…
— Ладно, это я так. Я насовсем сюда не собираюсь. Пока. А там посмотрим. Я вам, может, не сегодня-завтра одно золотое слово шепну. Ух, какое слово! Даже не догадываетесь. Ведь вы ничего, может, на самом деле не знаете. Может, твой мужик, допустим, уже рядом сидит, вон там? А? А я со своей стороны должен ждать, пока вы до ума дойдете, раньше нельзя. А куда опять же спешить? Надо, чтоб своим чередом созрело. Смотря по обстоятельствам. Как себя поведете. Ведь на чем, я вам скажу, жизнь строится? Во-первых, надо, чтоб впереди все время морковка болталась, без этого людей не удержать. А сзади чтоб страх оставался. Без этого тоже нельзя. Причем лучший-то страх не за себя. Мать это давно понимает, она жизнью ученая. С учеными проще дело иметь. Ну, и сынок, я смотрю, помаленьку соображать начинает. Правильно уловил, чего от него требуется. Вам отсюда, может, не так это видно. Потому что мы стережем, чтоб держалось все, как положено. А чуть если ослабим, дадим щелочке-то расползтись… Да, тебе ведь, между прочим, еще письмишко…
Потянул из заднего кармана брюк мятый листок — еще несколько таких же вывалилось на пол. Я наклонился поднять. Тот же почерк, те же слова родственного обращения — и еще на одном, постороннем листке стандартный штамп заголовка: «Справка об освобождении». «Об освобождении» зачеркнуто, взамен сверху надписано канцелярскими лиловыми чернилами: «о смерти». Без даты, ее пока нет, ее еще предстоит проставить по усмотрению, как на всех этих письмах, заготовленных впрок, дожидающихся дня, когда им позволят до вас дойти в порядке поощрения; за словом «диагноз» тоже пока лишь двоеточие, графа еще не заполнена, однако и это дело канцелярское, главное, фамилия, имя и отчество уже вписаны, пока что карандашом, похоже, чернильным, но от случайной или невидимой влаги значки местами уже становятся все более настоящими, уже набухают лиловым, расплываются на глазах…
Я поднял взгляд на маму, и лишь тут увидел тоже. В дверном проеме стояла старуха в складчатом, до полу, сером платье, в пенсне со шнурком. Должно быть, вышла из нашей комнаты.
— Ждать мне тебя или нет? — сказала недовольным скрипучим голосом.
— Слушай, сейчас бы музыку, — жмурился блаженно охранник. Он как будто успел коротко задремать и сейчас очнулся. — А? Есть у вас какой проигрыватель? Ну, интеллигенция!..
— Сейчас, — сказала мама и с трудом встала навстречу, опираясь обеими руками на стол и на спинку стула. — Сейчас… только ему объясню… Видишь, я ее все-таки нашла. Почти случайно. Мне давно говорили про какую-то гардеробщицу из Дома просвещения, которая умеет лечить особым способом. Я ведь только думала, что это у меня одной такое, с позвоночником. Никому даже не признавалась. Оказалось, это чуть ли не эпидемия. Врачи объяснить не могут. Непонятная ослабленность скелетной опоры. Ничего вроде с костями не происходит, анализы и все прочее объяснения не дают, а постепенно обмякаешь все больше, как кисель. И это, говорят, не только здесь. Не зависит от места жительства, от профессии, как говорится, от внешних факторов. То есть и не в отравлении дело, не в составе воздуха или воды… Как я сама раньше не поняла?..
— Да вот же, рояль стоит, — сообразил, наконец, охранник. — Кто на нем умеет? Вы не смотрите, что печать и пломба. Скажете, Виктор Фомич разрешил. Я разрешаю.
— Сейчас, — мама покачала опущенной головой. — Мне ведь и для себя надо объяснить… Ведь мне было лестно, что по крайней мере осанку я унаследовала. Если не знание шести языков — где уж нам… то хоть это. Осанку и гордость. Думать, что это гордость заставляет тебя держаться, гордость не позволяет ни о чем просить. Даже молиться. А в этой жизни держаться — значило прежде всего терпеть. Чем-то поступаться. Держаться — значило предавать. Иначе не выдержать. Сопротивляться — значило надломиться. Исчезнуть. Вот в чем оказалась ловушка… Может, я объясняю не теми словами, но причину оказалось нужно искать не просто внутри тела. Понимаешь? Нас ведь поддерживает не только этот бедный костяк. Всегда подразумевается еще и какая-то другая опора. Вроде хитинового панциря у насекомых — знаешь, который заменяет им позвоночник. Пусть это и не вполне научное объяснение… но эту внешнюю опору образует то, что всегда называли принципами, предубеждениями, правилами. Без чего, оказывается, тоже невозможно держаться. И когда эта опора слабеет, вся тяжесть сопротивления жизни переносится вовнутрь. Тогда позвоночник может не выдержать… Остается морковка и страх. И какое-то подобие скорлупы, видимой оболочки. Она ведь тоже подобие, — движением головы показала на фигуру в дверях. — Осанка, пенсне. Происхождение. — Покачала опущенной головой. Старуха смотрела невозмутимо, величественно, с легкой презрительной складкой в уголке губ. — Представляешь, она берется лечить особыми компрессами или корсетами из старой бумаги. Причем уверяет, что важно еще, какая бумага. То есть имеет значение, что на ней напечатано или написано. Суть в том, чтобы каждому подбирать свое. Но ведь кому-то помогает, вот что удивительно. Как прежде, бывало, клали на больное место бумажку с заговором. Хотя некоторым бывает достаточно и нательного крестика…
Читать дальше