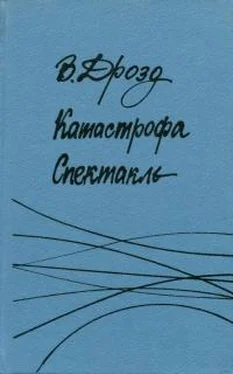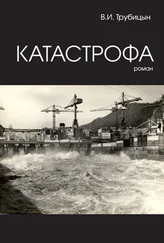Будь милосерден к побежденным. Где они все? — по углам жизни, а он — в центре, на свету. Он на сцене, они — в зале. Зрители моноспектакля, в котором Ярослав Петруня и автор, и актер. Исполнитель главной роли. И каждый его шаг заметен. Для истории. Не мельчи душой, поднимись над своими обидами. Я прощаю вас, недальновидные. Я милостиво вас прощаю. «Вы еще будете стоять в очереди за моим автографом», — говорил он Василю Гудиме в этом вот дворе, под шелковицей, после очередного обсуждения его поведения на профсоюзном собрании. Гудима тогда рассмеялся, но запомнил и ведь стоял в очереди за автографом, года три назад, когда Ярослав приезжал во Мрин на читательскую конференцию! Потом они обедали в ресторане. И Ярослав, подвыпив, спросил: «За какие такие грехи вы в Тереховке все норовили меня мордой об стол? Работу свою вроде делал хорошо, за троих тянул. Это теперь вспоминаю все со смехом, но тогда — мировая трагедия, сердечные приступы, одно время даже намеревался покончить жизнь самоубийством». «Мы учили тебя… вас жизни, — оскалил зубы Гудима. Когда он улыбался, верхняя губа у него поднималась. — И вижу, не без пользы…» «Каким я был, таким и остался!» — вспыхнул Ярослав. «Каждому кажется, что он с годами не меняется. Но наши самооценки очень приблизительны. Потому что вместе с нами меняются и сами критерии, по которым мы себя оцениваем». — «Но ведь я доказал, что не выдумал свой талант, что он был и есть в действительности!» — «Что — талант? Талант — это конь, без него, конечно, не поедешь, но не меньше значит, в каких руках вожжи…» — «Ну, правлю я хорошо!» «Научились, научились… — снова улыбнулся Гудима. — Радуемся за вас…»
Почему он улыбнулся?!
Ярослав вышел из машины. Руки в карманах кожаного пальто. В кожанке, как в раковине. Еще во Мрине мечтал: черный плащ, широкополая черная шляпа, руки — в карманах. Изолироваться от среды. Здесь за изгородью, побеленной известкой, была витрина с районной газетой, на второй полосе в самом уголке его, Ярослава Петруни, заметочка о силосовании кукурузы. И вот он похаживает вдоль изгороди и следит за каждым прохожим, подойдет ли к витрине, прочтет ли его статейку…
В чем был на выпускном вечере, в том и явился на работу. Вот он — семнадцатилетний Ярослав Петруня, бери и веди за руку по тропинке, через широкий двор, мимо сирени и шелковицы к дому, откуда трещит пишущая машинка, четыре комнаты с окнами на солнце — редакция. А навстречу — Гавриловна, уборщица и курьер по совместительству, везет на почту в тележке, а зимой на саночках их продукцию, результаты их творческих мук — кипу газет, остро пахнущую типографской краской и керосином. Иди ей навстречу и скажи бодро: «Доброе утро, Гавриловна», а она в ответ спросит, как, бывало, спрашивала все четыре твои тереховские года: «Что это тебе не спится, снова небось малевать будешь?» Не «писать», а «малевать» всегда говорила. «Человечество ждет, человечество!» — скажешь гордо, и она не поймет, шутишь ты или всерьез. В последний год, когда он решил во что бы то ни стало доказать всем, что он талант, приходил в редакцию на рассвете и писал в толстой в клеточку тетради повести, начиная каждый месяц новую. Тогда же — может, чуточку раньше — родилось его программное стихотворение, в котором рефреном звучали слова: «Народ с нетерпением ждет моих книг», и напевал его на мотив известного марша.
Изгороди нет, нет и шелковицы, нет, собственно, и двора, каким он был тогда, широкого, как футбольное поле, заросшего спорышем и седой полынью, ранней весной золотого, а потом белого от пуха одуванчика, двор словно зависал под синими небесами на множестве воздушных шариков. А сирень осталась, разрослась, стала старым, матерым кустом посреди огорода, весь двор вскопан; нижние ветки сиреневого куста со вздутыми кольцами-суставами, словно больны дворянской болезнью, а может, это уже другой куст, не тот, который они посадили весной на субботнике вместе с Гудимой, может, это внук того куста или правнук. И сарая не было, деревянного, с широкими, в полстены, воротами, в сарае стоял мотоцикл, и ранней весной весело было открыть настежь ворота, выкатить мотоцикл, ремонтировать его после зимнего отстоя и греться на солнышке, предвкушая дороги, экзаменационную сессию — месяц в Киеве, так много всего обещала весна! Молодость столько обещает — что-то дрогнуло у него внутри, а тогда не знал еще, какой он счастливый — по одной простой причине, — он молод. На месте деревянного сарая стоял каменный, продолговатый, на три двери, каждая дверь одиноко глядела на огород висячим замком. Обыкновенный безликий сарай, не согретый воспоминаниями.
Читать дальше