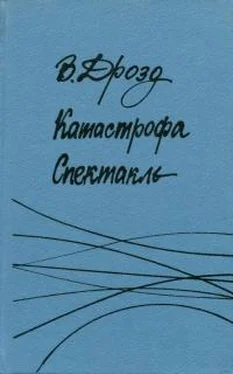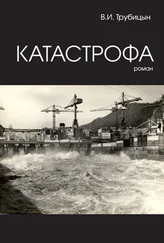— В Древнем Риме были оркестры?
— Я думала — писатели все знают.
— Писатели знают то, о чем пишут. О Древнем Риме я не писал.
— А про что писали?
— Как, вы не читали моей трилогии? Которая скоро станет тетралогией? То есть книгой из четырех, а может, и пяти книг? Вы не читали моей «Книги бытия»? Как же вы можете существовать на свете и считаться образованным человеком?! О, я начал с биографии. С биографии обыкновенных людей. Моего прадеда, моего деда, моих родителей, моих соседей, моих односельчан. Я записал тысячи биографий — людей разных поколений, людей девятнадцатого и двадцатого столетий. Колоссальная работа. Даже если бы я не написал на основе этого ни одной строчки — собранному цены нет. История за сто лет (и каких лет!) — через человеческие судьбы. А я написал. Начал с семидесятых годов минувшего столетия, теперь пишу о семидесятых — нашего. Трилогия моя естественно разрослась, как разрастается дерево. Каждая ветка на этом дереве — отдельная судьба. Части трилогии так и называются: «Книга Нестора», «Книга Ивана», «Книга Марины»… Вы скажете: позаимствовал в Библии. Что ж, и позаимствовал! Но я смотрю на Библию как на книгу историческую, по крайней мере — на Старый завет. Не согласны со мною? Спорьте! Я написал книгу бытия моего народа. И пусть даже будущим поколениям художественные достоинства моего труда не покажутся высокими — они склонятся перед грандиозностью сделанного мною и для литературы, и для истории. Ярослав Петруня, скажут, не разменял свою жизнь на мелочи, не погнался за времянками, он создал памятник поколениям, свершившим революцию и своими костями вымостившим дорогу в будущее…
— Ой, дядечка, остановитесь! Я рядышком живу!
Опомнился, нажал на тормоза. Девчонка поблагодарила, хлопнула дверцей и побежала по тропинке к белому, под красной черепичной крышей домику. Словно листок вербы сорвался с ветки и понесся по огороду. Все чудесно. Когда-нибудь и впрямь он напишет такую трилогию. Трилогию-документ. Книгу бытия народа. Книгу глубокую и суровую. Книгу века. В ней он будет самим собою. Ярославом Петруней. Не побоится эксперимента. Другие писатели позволяют себе поиск, а он что — рыжий? Издатели привыкли, что в его книгах все гладко и обычно, грамотно, никаких конфликтных ситуаций, ни в издательстве, ни потом, когда произведение напечатано, налицо все признаки времени, разговоры об НТР, разговоры о генетике, об экологии, разговоры о… Теперь будет все иначе. Ксеня купит канадскую дубленку, и никаких дурацких расходов. Жить экономно. Скромно. Духовно. Для литературы, для народа, не для себя.
Ненаписанные книги, как нерожденные дети, тревожат совесть. После первых родов Ксеня трижды делала аборт — то училась, то хотела петь, то старший уже подрос и появился вкус к спокойной, упорядоченной жизни, не хотелось пеленок, хлопот. Когда болел, приснилось: поле в тумане и маленькие привидения бродят, в белом, с красными, как капли крови, глазками, а кто-то говорит: «Это дети ваши с Ксеней, которых вы зачали, но родить не захотели, обрекли на смерть…» Ксене не рассказал про сон. Страшно было рассказывать. И вспоминать страшно.
Нерожденные дети — как ненаписанные книги.
Однако довольно. Все чудесно. Он в Тереховке. Известный, признанный и т. д. Можно нанизывать множество синонимов…
«Где этот чертов Бермут с фотокорреспондентами и телевизионщиками?..» Ярослав остановил машину у двора бывшей редакции бывшего Тереховского района. Историческая минута! Шутка, конечно. Отдых от славы, от шума. На дорогах юности. «Здесь где-то детство я оставил, а где — ищу и не найду», — писал он, приехав в Пакуль на весенние каникулы в десятом классе, бродил по сельским улицам, по ноздреватому грязному снегу, руки за спиной, голова задумчиво опущена, ностальгия по детству, неоглядные поля… рифма — земля, поля, весна, красна, борона, составлял словарик рифм, механизация процесса стихосложения на конвейере, в перспективе — новые шевиотовые брюки, мизерные гонорары районки вытолкнули его на выпускной вечер в старых дядьковых, подпоясанных веревкой где-то под мышками, но мотня все равно висела до коленок, а в вылинявшей тенниске свободно могли поместиться еще два таких, как он, впору были только дядькины же парусиновые туфли, отбеленные зубным порошком.
Здесь где-то юность я оставил… Трубите, трубачи, бейте литавры, я победил. Так мечтал о литературном вечере в Тереховке, но не вышло. Пусть теперь придут, пусть послушают, поглядят, все, все, кто считал его хвастливым мальчишкой, не верил в него. Воплощенная скромность, сдержанность, пусть кто-то другой говорит о нем — например, Бермут, а уж тот пропоет осанну. В первом ряду будет сидеть старый драный лис, заместитель редактора, который песочил его на комсомольских собраниях, и сам редактор Хорошун, завидовавший его публикациям в областной газете, он еще потребовал, чтобы собрание направило письмо в редакцию областной газеты о моральной и политической незрелости Ярослава Петруни, а бывший до Хорошуна редактор тереховской районки говорил, что в душе Петруни черти с ангелами дерутся на кулачках и ангелов, сдается, побеждают, потому что рогатых явно больше — теперь он учительствует в селе, погоди, ты еще, чего доброго, будешь ставить двойки ученикам, которые не читали произведений Ярослава Петруни, тогда вспомнишь чертей с ангелами…
Читать дальше