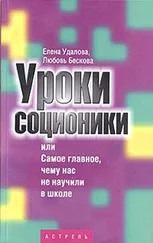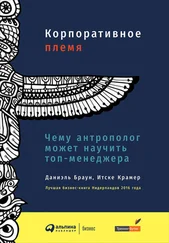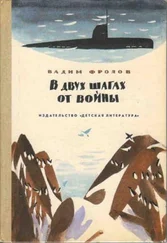– Итак, на чем мы остановились? – спросил Наконечник. – Мы остановились на том, что участковый уполномоченный – старшина милиции товарищ Богомолов – вызвал на душеспасительную беседу моего друга Юрия-ибн-Пантюшечку…
– 3-з-знаешь? – удивился Юрка.
– Я все знаю. Я даже знаю, что уважаемому свет-Пантюхе удалось отвертеться и не накапать на своего старшего друга. – Генка встал и торжественно протянул Юрке руку.
– 3-з-значит, порядок? – спросил Юрка.
– Пока порядок, – сказал Наконечник, – но мне кажется, что это весьма неустойчивый порядок. И поэтому я усиленно думаю: а не принять ли мне ценное предложение моего родственничка?
– Н-ну и правильно, – опять сказал Юрка.
– Это решение надо отметить, – сказал Наконечник и полез под раскладушку, – тем более, что я вижу: друг моего друга, – он кивнул в мою сторону, – находится в растрепанных чувствах.
Из-под раскладушки он достал какую-то бутылку с пестрой наклейкой.
– В винных погребах маркиза де… де… черт с ним, нашлась бутылка отличного старого плодовыгодного выделки тысяча девятьсот… э-нного года, – сказал он и поставил бутылку на подоконник.

До сих пор мне все это было забавно, но тут я маленько струхнул. Я вспомнил, как, когда мне было восемь лет, я напился до чертиков. У нас были гости, и, когда батя с мамой вышли в переднюю проводить их, я подкрался к столу и вылил в стакан остатки водки. Оказалось почти полстакана, я одним духом выпил и, задыхаясь, помчался к себе в комнату. Что потом со мной творилось – трудно описать. И до чего же мерзко было мне потом, когда хмель вышел! С тех пор я ни разу не пробовал пить, даже если иногда при гостях мне предлагали рюмочку разбавленного водой вина. Нет уж, увольте, подумал я, пить я не стану. И, конечно же, выпил. Ужасно слабовольный я человек, – даже уговаривать меня не пришлось, так, поломался для приличия и выпил почти целый стакан этого «плодовыгодного». Ну и дрянь же! К счастью, Генка мне больше не предлагал, а Пантюха выпил совсем немного.
– Н-ну его, – мрачно сказал он, – я его ненавижу, это винище.
Тогда я еще соображал кое-что и понял, почему Пантюха ненавидит это винище. А уже минут через десять, ну может быть двадцать, я уже почти ни черта не соображал. Помню только, что мне море было по колено и я все порывался рассказать, за что я избил Валечку, но, кажется, так и не рассказал: Пантюха – молодец, он все-таки не дал мне.
А Генка выпил еще и вдруг запел противным голосом:
Менял я женщин тар-тарьям-пам,
Как перчатки…
Замолчал и сказал, подмигивая:
– Юрик, помнишь ту – в синем плаще?
Пантюха молча кивнул.
– Так я ее… тарьям-пам, все в порядке, – и он щелкнул языком.
– И-д-ди ты, – мрачно сказал Паитюха.
– Ну, ты у нас еще ребеночек, Пантюшечка, – заржал Наконечник. Глазки у него стали какие-то масленые, и он начал хвастаться, каких только девок у него не было, и что любую можно обработать, надо только знать, как к ней подойти, и хвастал, и врал, наверно, больше половины, а Пантюха зло ругался и тянул меня домой, а я не шел.
В голове у меня шумело, и море для меня становилось мельче и мельче, и, хотя было чуточку противно, я все же слушал и слушал и сам порывался что-то рассказать… Наташка, Лелька, Ольга вертелись у меня на языке, и я, кажется, уже ляпнул что-то, потому что помню, как Юрка двинул меня кулаком в поддыхало и я задохнулся, а он вытащил меня на улицу…
…Немножко я очухался на скамейке в нашем дворе. Рядом сидел Юрка и уговаривал меня пойти к ним и принять душ. Вспоминать об этом мне и сейчас противно и стыдно так, что хоть сквозь землю провались. Но тогда-то я был храбрый, как заяц во хмелю. Я кричал, что мне на все наплевать, что «жизнь дала трещину» (откуда-то слова такие выкопал, черт меня знает), что сейчас вот пойду домой и скажу отцу все, что я об этой истории думаю, скажу ему, что он трус и все взрослые трусы и подлецы и нечего их жалеть – они-то нас не больно жалеют. Только всё говорят: детей надо уважать, а где оно, это уважение, где?
– Я тебя спрашиваю, где оно? – орал я и грозился набить морду Долинскому, а потом начал орать, что все бабы одинаковы и надо только знать, как их «обрабатывать», и плакал, и орал, и грозился, и плевался какой-то тягучей липкой слюной, и текли у меня… сопли, а я казался себе героем, которого никто не понимает, и ругал последними словами и Наташку, и Ольгу, и Лельку, и весь мир.
Читать дальше