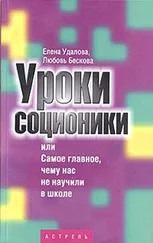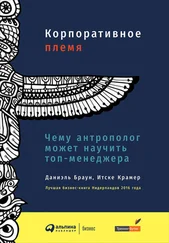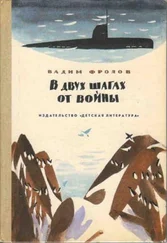На наши голоса из своей комнаты выходит в халате тетя Люка. Ливанский жалобно разводит руками и говорит, что он был прав, что он всегда прав, но его никогда не слушают, и вот что получается, и пусть теперь все, кроме него, расхлебывают эту кашу.
– Что случилось? – грозно спрашивает мадам Ливанская.
Я ужасно испугался, прямо задрожал весь от ее грозного голоса, так вот стою и трясусь от страха; можно сказать, поджилки у меня задрожали, как только я ее увидел. Черта с два! Это у нее затряслись поджилки, когда она меня увидела, и чихал я на ее грозный голос.
– С Долинским? – опять спрашиваю я, и тетя Люка все понимает и хочет взять инициативу в свои руки. Она любит брать инициативу в свои руки. Хлебом ее не корми, а дай только в руки инициативу…
– Не суетись и не ерепенься, – говорит она.
А я не суечусь и не ерепенюсь, я просто спокойно спрашиваю: не с Долинским ли уехала от нас моя мама? Спокойно спрашиваю, а сам думаю: какой же она герой, тетя Люка, если она мне, мальчишке, боится сказать правду. И думаю, что, может быть, она все-таки скажет, и жду и боюсь этого. Но она очень строго говорит:
– Мы ничего не можем сказать тебе, Саша. Все, что нужно, скажет тебе отец. А сейчас лучше оставайся у нас – папе я позвоню.
Но я ухожу. Я ухожу из этого дома, где, знаю, меня любят, но ничего не хотят сказать. И хотя мне ничего не говорят, я уже твердо знаю, что все, что мне сказал Валечка, – правда. И правду эту знает «весь дом», вся улица, весь город и весь мир. И правда эта такая, что от нее не хочется жить. Я уже не злюсь на Ливанских, уж если мой отец трус, так им и сам бог велел…
Я поднимался по своей лестнице и услышал, как внизу хлопнула входная дверь. Поглядел вниз и увидел Валечкиного отца – инженер-капитана Панкрушина. Я сразу понял, что он идет к нам. Вот уж с кем мне никак не хотелось встречаться. Не нужно мне это было совсем – выслушивать всякую ругань и упреки и не сметь ничего объяснить. Я взбежал вверх по лестнице, чтобы он меня не заметил. Проскочил наш этаж и притаился на площадке. Я услышал, как он некоторое время покашливал у наших дверей, видимо не решаясь позвонить, но потом наконец позвонил, дверь открылась, и Панкрушин, откашлявшись, хрипло сказал:
– Извините, Николай Николаевич, но мне необходимо с вами поговорить.
Дверь захлопнулась, и я начал тихо спускаться вниз и подумал, что было бы интересно послушать, что хорошего скажет обо мне Валечкин отец. И как батя будет объяснять мой поступок, и вообще, что он скажет и как будет себя вести мой трус батя? Ведь что-то ему придется говорить. Что ж он, будет меня защищать, или скажет, что я негодяй и он мне задаст, или будет выкручиваться, как выкручивались Ливанские? Ведь ему вдвойне неудобно перед Панкрушиным, – они ведь знают друг друга по работе.
Я никогда не любил подслушивать, но тут мне было на все наплевать, и потом – мне очень важно было знать, как будет вести себя отец. Я начал тихонько открывать своим ключом дверь, так, чтобы она не скрипнула, а когда открыл, тихо-тихо вошел в переднюю и подкрался к батиной комнате. Дверь была полуоткрыта, и я сразу услышал голос Валечкиного отца, но сначала ничего не мог разобрать – так у меня колотилось сердце и стучало в висках. Потом я постарался взять себя в руки и начал прислушиваться.
– Николай Николаевич, – говорил Панкрушин, – я хочу, чтобы вы сразу поняли: я лично (он как-то особенно сказал это «лично») никаких претензий к вашему Саше не имею. Мне трудно это говорить, но он был абсолютно прав. И если бы Валентин не был в больнице, и если бы ваш Сашка не отделал его уже как следует, я бы его сам вот этими руками… хоть он и мой сын…
Вот этого я не ожидал. Это очень странно; не иначе, Панкрушин знает, за что я… Ну, да он ведь тоже «весь дом», но неужели Валька признался ему, что он мне сказал?
– Что вы, что вы, Семен Петрович, – сказал батя, – вы не волнуйтесь. Что случилось?
– А вы не знаете? – удивленно спросил Панкрушин. – Нет, серьезно, не знаете?
– Нет, – сказал батя, – то есть я знаю, что Сашка безобразно избил вашего сына. Безобразно. И, конечно…
– А… за что, за что? Вы знаете?
– Н-нет.
– Тогда я не знаю, как уж вам сказать об этом. – Он помолчал, потом с трудом добавил: – Нет, не могу.
Я ждал, я думал, что вот сейчас он скажет отцу все, и тогда мне уже не надо будет говорить и все станет ясно. Я хотел, чтобы он сказал, и боялся этого, потому что где-то глубоко-глубоко у меня таилась надежда: а вдруг это неправда. Вдруг. Но он не сказал, и я подумал, что вот ведь совсем и не похоже, что он – Валечкин отец.
Читать дальше