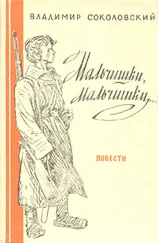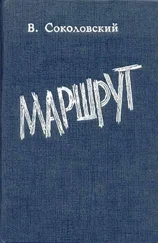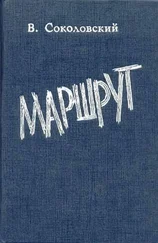Стало холодно. Он поднялся со скамейки и медленно пошел по аллее. Снова один, в чужом месте, в пустом саду! Звезды поглядывают с черного неба, и от них тоже веет печалью. Грустно, рядом нет никого. А раньше — странно! — тебе это и не надо было. Что ж, броди и мигай на луну, такую светлую майскими ночами. Спина идущего Локоткова гнулась, плечи зябко ежились. Может быть, уехать завтра отсюда на другом, совсем не рябининском автобусе? Нет, не в областной город, и не к матери, а именно — куда глаза глядят. Не заезжая за шмотками к хозяйке Вере Леонидовне. Что там, собственно — чепуха, тряпье… И вот так колесить, скитаться, ночевать где попало, покуда не пропадешь совсем, не исчезнешь с земного лика, будто тебя на нем никогда и не было. В такой дороге тоже обязательно попадутся добрые люди, с которыми можно будет поговорить о прошлом, об удавшейся или неудавшейся — кто знает? — своей жизни, о Вечном Миге, ждущем человечество. А если он и став бродягой не будет никому нужен? Вот как сейчас. Локоткову стало жалко себя, он снова лег на скамейку, отвернулся к спинке ее, закутался крепче в пиджак и скоро задремал в полном унынии.
Несмотря на такое настроение, сон его — третий по счету сон о Последней Войне — был почти счастливым. В нем сначала все текло по-прежнему: взрыв, гибель Земли, Черный Карлик. Но, присутствуя и паря над плеснувшимся во все стороны морем смерти, душа Локоткова знала, что в тот самый момент, когда это произошло — в другом месте необьятной Вселенной, в океане, впервые сжалась и начала неуверенно пульсировать клетка. Еще где-то — обезьяна подняла камень и стала им обтесывать палку. Где-то началась пора первых религиозных войн. Прыжок через пространство — человек, склонившись над листом бумаги, выводит: «Общественный Договор». Велико звездное море! — вот в одной из его серебряных точек некто в котелке и клетчатом костюмчике оседлал неверное сооружение из легких палок, полотна, — и стелется на нем счастливый, над сухой травой, — тоже впервые. И он, и его потомство уже близко к гибели, ибо никто не знает страшной силы нового аппарата, его удивительных для всего живого последствий. Но некто счастлив, ибо он — открыл, нашел.
И везде, где только возможна была разумная жизнь, шла вечная, большая, не знающая вех работа.
Пахарь орал твердь.
Сеятель бросал семя в землю, разомкнутое лоно планеты.
Серп касался колосьев.
Бухали тяжкие цепы.
История жила! Закончившись в одном месте, она начиналась в другом. Вот, оказывается, каков был общий закон.
Лишь только Валерий Львович Локотков понял это во сне, дыхание его стало легче, и он уснул уже спокойно, крепче прижавшись щекой к согретой сандальной подошве.
Проснулся он бодрый, на рассвете, и сразу вспомнил областной город в это время: поздняя весна, раннее лето, миг, когда вот-вот взойдет солнце. Во дворах плещутся листья под легким ветром, обнимаются ребята с девчонками возле домов и в подъездах, колотят туфлями мостовые непризнанные поэты с голодным блеском в глазах, гудочки плывут с реки… В хранилищах спрятаны книги и рукописи, которых коснутся сегодня люди. Хорошая пора для счастливых! А несчастный сейчас обретает надежду — чтобы зимой снова утратить ее.
Но Локотков не завидовал этим утром счастливым, и не жалел неудачников. У него было на душе: уже сегодня он будет у себя, среди своих, можно и отоспаться, сколько хочешь, и поесть как следует, и пойти потолковать к физику о разных школьных и нешкольных делах… После вчерашнего глупого, чуть не закончившегося несчастьем дня легко и хорошо подумалось о квартирной хозяйке Вере Даниловне, Слотине, даже о девчушках-учительницах. Вот что стало ясно и понятно, будто издавна: не беда провести ночь на скамейке в незнакомом месте, если знать: где-то есть дом с теплой кроватью, еда, люди, хотя бы на работе, ждущие тебя. Тогда это — подумаешь, временная невзгода!
Вечером он до крепкого пота, с уханьем колол дрова во дворе Веры Даниловны, незло покрикивая на крутящегося под ногами Тобку.
Пошло, поехало все по-прежнему: уроки, вытягивание четвертных отметок, ожидание долгого лета… К тому же стал легонько намечаться роман с конопатенькой литераторшей Машей — той самой, которую целовал у печки на злополучном вечере. Он два раза провожал ее домой после уроков, и, хоть и не был приглашен в избу, удостоился долгого разговора возле крыльца, и она как-то особенно пожала ему руку. Нельзя сказать, чтобы Маша сильно нравилась Локоткову: у нее была неприятная ему еще с детства жажда поучать, говорить чужими словами, цитатами, в коридоре и классе она изводила детей глупыми учительскими поговорками: «Смех без причины, Бельтюков — признак дурачины»; «Курятин! Не хочу учиться, хочу жениться — так у тебя получается?» «Художник от слова „худо“…» Да и с виду она была довольно невзрачна, раньше он не обратил бы на нее никакого внимания.
Читать дальше