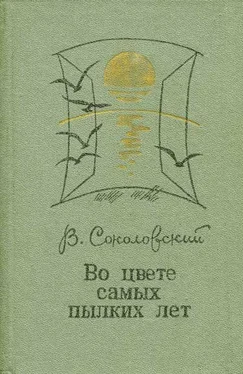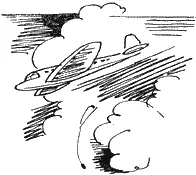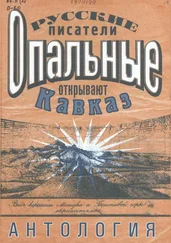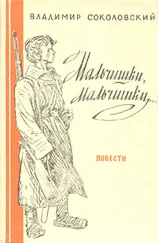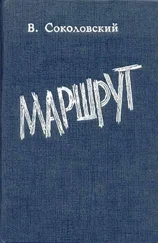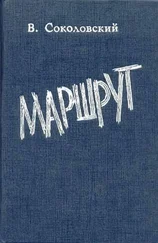Владимир Соколовский
МУРАШОВ
Повесть
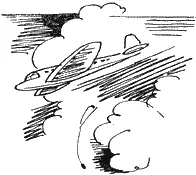
До войны здесь стоял огромный щит с рекламой бегов. По зеленому, вытоптанному в круге полю неслись кони. Крайний — гнедой, он прямо вырывался со щита: мощная, широкая грудь, изогнутая в напряжении шея, оскаленная морда… Здорово! Видно, художник любил лошадей.
Когда шли бои, неподалеку упал снаряд, щит повалился на землю и сильно обгорел. А стоял он у самой городской границы и будто отгораживал крайние строения от сколоченных на скорую руку хижин, землянок, что грудились за окраиной. Теперь от них остались только ямы, в одной из таких ям и ютился Мурашов. Немцы дважды выжигали дощатые лачуги и землянки, якобы из санитарных соображений; выжигались попутно и жившие тут люди: цыганские и еврейские семьи, раненые, другие отставшие в отступлении красноармейцы, бродяги и темный люд из не успевшей эвакуироваться тюрьмы. Особенно много погибло в первый раз. Обезумевшие, залитые огнем, люди рвались к огнеметным командам, и солдаты — те, кто пожалостливее, — достреливали их. Во второй раз сгорело уже меньше. Все это рассказал Мурашову старый цыган, — теперь в обгоревших ямах жил только он со своей широкой, оплывшей, горбатой от горя женой да пятилетним внучонком. И сам Мурашов — капитан из армейского разведотдела. Но он-то обитал здесь считанные дни, и ничто не связывало его с этой выжженной землей, а у старика погиб тут весь табор — на его глазах. С женой и внуком он ушел тогда утром в город, и, вернувшись, они увидели с небольшого пригорка оцепление и огнеметы… Когда цыган рассказывал это, его потерянное в бороде лицо словно совсем исчезало — только источались слезы из-под зажмуренных век. «Надо идти в степь!» — говорил Мурашов. «Нет, нет, — качал головой старик и прижимал к себе курчавого внука. — Михай остался последним в моем роду, я не могу умереть с ним в степи. Миха, Миха, чавэлэ…» Капитан удивился: что случилось со старым бродягой — он стал бояться открытой земли? В степи и правда было опасно — где там, на продуваемой со всех сторон равнине, спрятаться от неутомимо шныряющих жандармов и патрулей? Над Бессарабией навис фронт, власти ожесточены и напуганы до предела, ловят и стреляют, наивно рассчитывая тем оттянуть неизбежное… Мурашов сам еле ушел от патрулей, пытаясь пробраться к фронту.
Цыган со старухой вырыли землянку, обложили свод ее обгорелым, натащенным с руин кирпичом, наносили дерн на крышу; однако в войну любое, даже и самое крепкое жилье не бывает надежно, а уж земляночка-то эта — совсем чепуха, не более чем вид… Дед словно не понимал этого, все укреплял и укреплял ее. Когда появился Мурашов, старик стал приходить вечерами к его яме, делился жмыхами, которые воровал для семьи на румынской конюшне. Солдаты-румыны наверняка догадывались об этом, однако не гнали старика, не жаловались на него офицерам: за то, что он знал лошадей, помогал кузнецу, за кусок того же жмыха или мамалыги мыл животных, чистил конюшню, чинил упряжь, бегал к лавочнику по поручениям. По сути, он и кормил весь свой почти разрушенный род. «Миха, Миха, чавэлэ…» Старуха уползала с утра гадать и просить милостыню, — это тоже было весьма опасно, могли в любую минуту задержать и утащить в префектуру, оттуда дорога вела в приземистый каменный дом — местную тюрьму, а дальше — лишь к Ямам, пустому и мрачному месту километрах в двух от города. Там раньше добывали глину и делали кирпичи, а теперь — расстреливали людей, не нужных фашистской власти или, по ее мнению, не имеющих права на существование. Так что у цыганки не было бы в этом случае ни единого шанса выжить. Подавали ей мало, приносила она сущую чепуху, однако каждый день, словно на работу, бабка ходила и ходила на люди — сказывалась, видно, и многолетняя привычка, и натура, и потребность хоть как-то подпитать сознание иллюзией старой, довоенной жизни. Пока деда с бабкой не было, мальчишка их оставался в развалинах один. Из города к нему наведывались иногда сверстники, молдавские ребятишки, — тогда они играли вместе, бегали по выжженным пригоркам. Но приходили отцы и матери, отыскивали пацанов, били их, цыганенка, тащили детей домой, подальше от страшного места. Мальчик опять оставался один, плакал где-нибудь в ямке или тихо играл с тряпкой, деревяшкой, воображая их игрушками.
Читать дальше