— Иваны-ыч! — услыхал он вдруг дребезжащий голосок. — Постой, поку-урь!..
Это кричал со своего крыльца дед Опенкин, старожил.
— О! Здорово.
— Выпить не хошь? — гомонил дед. — Я ведь ноне пеньзию получил. Бутылку купил.
— Причастился уже?
— Не. Закуску варю.
— А ядрена ли та закуска?
— Хэ!.. Будь здоров! Целых три картошины. Дак мне больше ниче не надо. С бутылкой-то — до утра хватит.
— Вот и ладно. Как хоть живешь?
— Да от людей днями не отстаем, за нуждой в люди не ходим, живем — смешим народ-от! А у тебя как дела?
— Дела-те в халате, велики рукава-те.
— Хэ… как дочка? Такая вежливая — всегда поздоровается со стариком! Девичья жизнь не напрокучила ей ищо?
— Да это… к тому, вроде, дело идет.
— Ну, помогай Бог! Это добре, Иваныч, што она не в мать сладилась. Валька-то ведь таковска была, не порядком жила…
Посреди улицы играли ребятишки: сгребали в горсти пыль и с криками бросали в небо. К дому Опенкина, неторопливо выступая, приближались два местных мудреца, ветерана и больших путаника — Нифантьич Богомяков и Митрич Непотапов.
— Явление старперов народу! — хохотнул Урябьев. — Как жись-та, отцы?
— А хули нам, малярам — днем мажем, ночью кажем, — отвечали мудрецы. — Здорово, Федя. А ты, старый пенек, какого хрена тут расселся? Гляди, закоптишься совсем…
Опенкин не внимал им: уставя в небо блеклые глаза, он следил за большою птицей, кругами поднимавшейся над городком. Вдруг двукрылый самолет-кукурузник, жужжа мотором, стал надвигаться на орла с юга; птица камнем упала вниз, выравнялась над землею, и плавно ушла за горизонт. Самолет же плыл и плыл своей дорогой, поблескивая кабинкою и круглыми окошечками на бортах.
— Эдак-ту, — запыхтел дед, — осенью сорок пятого года мы с комдивом из Мейсена в Лейпциг ехали. На «оппель-адмирале». Еще за город не выехали, глядим — экий же самолетишко с аэродрома взлетел… нет, тот поменьше был… Взлетел и чешет, собака, рядом с дорогой. Генерал орет: «Опенкин, гони! Обгонишь — медаль дам!» Ну, я и придавил…
— Неужто обогнал?!! — ахнул Митрич Непотапов.
— Да где, куды там… Хоть его скорость выдержал — и то ладно. Ноздря в ноздрю шли, во как! Только указатель «Лейпциг» проскочили — и самолет на посадку пошел. Комдив мне за это стакан коньяку поднес.
— А медаль?
— Го-го… медаль… Не больно ли жирно? Я ведь через неделю чуть в трибунал не сгремел.
— О-о…
— Вот и «о-о…». Забрались в какой-то подвал, напились впятером… Пошли бабу искать. Нашли — так она хоть старовата, но ничего еще была… И — давай мозолить. Под утро скончалась. А мы, придурки, возле нее, мертвой-то, давай еще водку хлестать. Так нас патруль там и накрыл. А войны-то уж нет, на нее не спишешь! Ну, следователь то, другое… Я ему и говорю: «Мало они наших баб терзали! Я навидался, знаю… Натешатся — да еще и с трупом-то незнамо что сотворят! Помню одну девку: возле стены положили, т у д а ей лимонку засунули, чеку выдернули — а сами за угол, видать, отбежали… Вы сами-то таких не видывали? Ведь это нелюди были!.. А мы над этой фрау не издевались, мы с ней за продукты договорились. Все путем было. Ну, не выдержала русского солдата — печальный, конечно, случай… Но только за немку нас судить не надо: все же мы воины-освободители…». А следователь-то был еврей. Слушал меня, слушал, и говорит: «Да х-хрен с вами со всеми! У меня они вообще всю семью уничтожили. Старых, малых, отца с матерью, бабку… Давай вали отсюда, да начисто, чтобы — если хватятся — и духу твоего поблизости не оказалось!» Тут уж я комдиву в ножки, а он меня — в список на дембель. А ты толкуешь — медаль… х-х-гы-ы…
— Как говорится — сначала хотели наградить, но затем посоветовались и решили ограничиться строгим выговором! — засвидетельствовал свое присутствие Урябьев. — Дело знакомое…
— Ушел, значит, от трибунала. Х-хе… Вот ведь какой, гли, хитрый Митрий: на полу спит, а не падат.
Ветераны зычно захохотали.
— На войне главно — свое место сразу заявить. Помню, привезли нас на формировку. Согнали на лесную поляну: народ гимзит, шум, ор, толкотня… Я и думаю: «Не может такая орда без учета быть!» Молодой-молодой был, а смикитил! Достал из сумки карандаш, тетрадку школьную для писем, сел за пенек: «А ну, служба, подходи по одному!» Комполка прибыл, глядит — в подразделении уже каким-то порядком пахнет, списки пишутся… Тут же мне — звание сержанта, в старшие писари произвели… Только всего в одном бою и побывал, когда немцы к штабу вышли, — тогда уж всех собирали: и писарей, и ездовых, и сапожников. Бухнулся в траншею, винтовку высунул, хотел стрелить, да тут меня ка-эк в глаз-от шибанет!.. Так и вся война для меня кончилась. Вот ка-ак! — сверкая глазным протезом, взвыл Нифантьич Богомяков.
Читать дальше



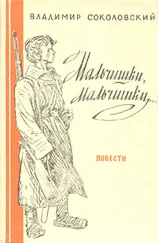
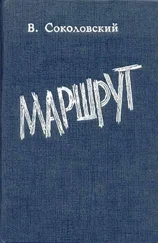
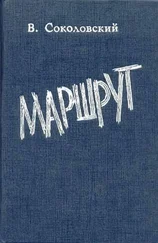

![Владимир Поселягин - Уникум [litres]](/books/435225/vladimir-poselyagin-unikum-litres-thumb.webp)


