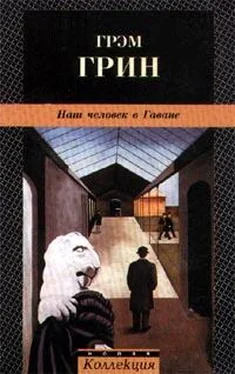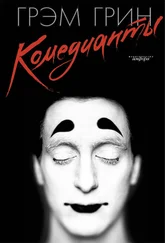— Даю вам честное слово, Сегура, что до сегодняшнего вечера я даже не знал, что он существует.
Сегура переставил шашку.
— Честное слово?
— Да, честное слово.
— Вы — отец Милли, приходится вам верить. Но держитесь подальше от голых женщин и жены профессора Санчеса. Покойной ночи, мистер Уормолд.
— Покойной ночи.
Они почти дошли до двери, когда Сегура сказал им вдогонку:
— А мы все-таки сыграем с вами в шашки, мистер Уормолд. Не забудьте.
Старый «хилмен» ждал их на улице. Уормолд сказал:
— Я отвезу вас к Милли.
— А сами вы не поедете домой?
— Сейчас уже поздно ложиться спать.
— Куда вы едете? Я не могу поехать с вами?
— Мне хочется, чтобы вы побыли с Милли, на всякий случай. Вы видели фотографии?
— Нет.
Они молчали до самой улицы Лампарилья. Там Беатриса сказала:
— Напрасно вы все-таки дали честное слово. Можно было без этого обойтись.
— Вы думаете?
— Ну, конечно, вы вели себя профессионально. Простите. Я сказала глупость. Но вы оказались куда профессиональнее, чем я думала.
Он отворил входную дверь и посмотрел ей вслед: она шла мимо пылесосов, как по кладбищу, словно только что кого-то похоронила.
2
У подъезда дома, в котором жил доктор Гассельбахер, он нажал звонок чьей-то квартиры на втором этаже, где горел свет. Послышалось гудение, и дверь открылась. Лифт стоял внизу, и Уормолд поднялся на тот этаж, где жил доктор. В эту ночь Гассельбахер, верно, тоже не мог заснуть. В щели под дверью был виден свет. Интересно, он один или советуется с голосом, записанным на пленке?
Уормолд быстро усваивал правила конспирации и приемы своего неправдоподобного ремесла. На площадке было высокое окно, которое выходило на слишком узкий, никому не нужный балкончик. Оттуда Уормолду был виден свет в окнах доктора и без труда можно было перемахнуть на соседний балкон. Он перелез, стараясь не глядеть вниз, на мостовую. Шторы были неплотно задернуты. Он заглянул в просвет между ними.
Доктор Гассельбахер сидел к нему лицом; на нем были старая Pickelhaube [39], нагрудник, высокие сапоги и белые перчатки — старинная форма улана. Глаза у него были закрыты, казалось, он спал. На боку висела сабля, и он был похож на статиста, наряженного для киносъемки. Уормолд постучал в окно. Доктор Гассельбахер открыл глаза и уставился прямо на него.
— Гассельбахер!
Доктор чуть-чуть пошевелился, может быть, от ужаса. Он хотел было скинуть с головы каску, но ремень под подбородком ему помешал.
— Это я, Уормолд.
Доктор опасливо подошел к окну. Лосины были ему слишком тесны. Их шили на молодого человека.
— Что вы тут делаете, мистер Уормолд?
— Что вы тут делаете, доктор Гассельбахер?
Доктор открыл окно и впустил Уормолда. Он очутился в спальне. Дверцы большого гардероба были распахнуты, там белели два костюма — точно последние зубы во рту старика. Гассельбахер принялся стягивать с рук перчатки.
— Вы были на маскараде, Гассельбахер?
Доктор Гассельбахер пристыженно пробормотал:
— Вы все равно не поймете. — Он начал постепенно разоблачаться: сначала снял перчатки, потом каску, потом нагрудник, в котором Уормолд и вся комната отражались и вытягивались, как в кривом зеркале. — Почему вы вернулись? Почему не позвонили, чтобы я вам открыл?
— Я хочу знать, кто был Рауль?
— Вы знаете.
— Понятия не имею.
Доктор Гассельбахер сел и начал стягивать сапоги.
— Вы поклонник «Шекспира для детей», доктор Гассельбахер?
— Мне дала книжку Милли. Разве вы не помните, как она мне о ней рассказывала?.. — У него был очень несчастный вид в обтягивающих брюшко лосинах. Уормолд заметил, что они лопнули по шву, чтобы вместить теперешнего Гассельбахера. Да, теперь он припомнил тот вечер в «Тропикане».
— Эта форма, — сказал Гассельбахер, — видно, нуждается в объяснении.
— Многое нуждается в объяснении.
— Я был офицером уланского полка — давно, сорок пять лет назад.
— Я помню вашу фотографию в той комнате. На ней вы одеты по-другому. Вид у вас там не такой… бутафорский.
— Это было уже после начала войны. Посмотрите вот тут, возле туалетного стола, — 1913 год, июньские маневры. Кайзер делал нам смотр. — На коричневом снимке, с клеймом фотографа, выбитом в углу, были изображены длинные шеренги кавалерии с обнаженными саблями и маленькая фигурка сухорукого императора, объезжающего строй на белом коне.
— Ах, как все было мирно в те дни, — сказал Гассельбахер.
— Мирно?
— Да, пока не началась война.
Читать дальше