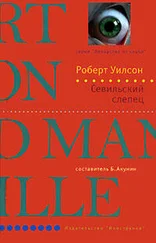В 1953 году партия начала издавать сельскую газету, «У кампунэш» («Крестьянин»), боровшуюся, как и мечтала Анна, за гарантированный минимум поденной платы пятьдесят эскудо. После ряда упорных стачек и кровавых столкновений с полицией батраки добились своего, но победа была куплена ценой жизни молодой беременной женщины из Бежи, Катарины Эуфемии; застреленная лейтенантом спецотряда Катарина превратилась в мученицу, в напоминание о бесчеловечности режима. Ее портрет появился во всех местных выпусках «У кампунэш».
Анна резко остановилась посреди комнаты, посмотрела на себя со стороны и почувствовала, как вновь возвращается к ней та железная одержимость. Погрузившись в воспоминания, она опять забыла или отодвинула в сторону… как бы назвать это? Домашние горести. Возможно, то были мелочи, легкие порезы, отдавленные мозоли по сравнению с политикой, и все же они добавлялись к общему бремени. Да, именно так: мелочи суммировались, и теперь пришлось иметь дело с итогом.
Вопреки своему обещанию утром мать ничего не рассказала Анне: ей было дурно, мучили сильные боли. Анна сменила повязку, прикрывающую мертвенно-бледный послеоперационный шов. Пришлось дать матери таблетки, и она поплыла через медлительный, знойный день на облаке морфина. Так же точно прошел и следующий день. Анна вызвала врача. Тот осмотрел шов, заглянул в потускневшие глаза пациентки, попытался добиться от нее связных ответов, но в этом не преуспел и ушел, предупредив на прощание: если состояние не улучшится, придется перевести ее в больницу. Последние слова каким-то образом проникли в сознание больной женщины, и прежняя сила воли вернулась к ней. На третье утро она проспала допоздна, а проснувшись, отказалась от морфина.
Тем временем яркие солнечные денечки заволокло глухой серой пеленой. Вместо бодрящего тепла надвигающаяся гроза ощутимо давила снаружи на окна. Мать что-то поклевала за ланчем и пролистала газету. Анна перешла с чаем к ней в спальню, устроилось лицом к окну, закинув ноги на подоконник. Мать обливалась потом, обтирала лицо влажной тряпкой.
— Так бывало в Индии перед муссонами. Чем дольше задерживался сезон дождей, тем беспощадней палила жара. Все уезжали на север, в Кашмире были дома на воде, дома-лодочки. Но мы, миссионеры, не уезжали. Жуткая жара, — произнесла она почти свирепо.
— Как в Анголе.
— Это не место для таких женщин, как мы с тобой. На улицах Бомбея люди так и мерли. Просто падали, осыпались, как старая ветошь.
— А запах! — подхватила Анна.
— Не думаю, что я могла бы жить посреди этого неумолимого распада.
— Ты о чем?
— Не могла бы остаться в Индии.
— А ты бы хотела?
— Нет, — подумав, ответила мать, — нет, не хотела бы. Да и не могла.
— Почему? — настаивала Анна, почуяв, что главная тайна где-то близко.
Мать неподвижно смотрела на собственные ноги, укрытые одеялом.
— Подай-ка мне ту коробку с туалетного столика, — распорядилась она.
Красная деревянная коробка, на крышке вырезаны стилизованные фигуры мужчины и женщины. Индийская поделка. Мать открыла шкатулку, высыпала на кровать свои украшения.
— Красивая вещь, — похвалила она, поддевая пальцами уголки шкатулки чуть пониже петель. Дно отвалилось, словно нижняя челюсть хищника, и на простыню выпали два листка бумаги. — Как видишь, на крышке — влюбленные, а под фальшивым дном — их тайны.
За окном свет пожелтел, солнечные лучи проникали сквозь расплывшуюся, как старый синяк, тьму. Все сильнее сгущался, давил воздух, и теперь уже обе женщины обливались потом.
— Ты бы лучше села, — посоветовала мать и потянулась за очками, однако не надела их, а так и держала, сложенные, перед глазами.
— Меня ждет потрясение? — спросила Анна.
— Думаю, да. Я покажу тебе твоего отца.
— Ты же говорила, фотографий не сохранилось.
— Я лгала, — спокойно ответила мать, передавая ей первую из хранившихся в шкатулке бумаг.
На обратной стороне была надпись: «Жоаким Рейш Лейтау. 1923». Анна перевернула снимок и увидела молодого человека в летнем костюме.
— Что с фотографией? — удивилась она. — Неудачное освещение? Или выцвела со временем?
— Нет, именно таким он и был.
— Но… он кажется здесь очень смуглым.
— Вот именно. Он индиец.
— Ты же говорила, что он португалец!
— Наполовину. Отец служил в португальском гарнизоне, а мать была из Гоа. Жоаким был католиком и подданным Португалии. Его мать… — Одри даже головой покачала, не в силах передать восхищение, — его мать была красавица. Ты, к счастью, пошла в нее. Отец… что ж, он был неплохой человек, насколько мне известно, но что до внешности… Возможно, у себя на родине португальцы красивее…
Читать дальше

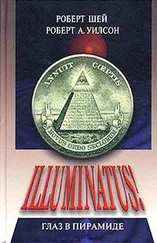

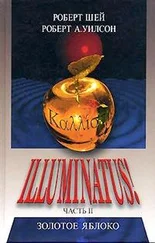
![Роберт Шекли - Компания «Необузданные таланты» [английский и русский параллельные тексты]](/books/34808/robert-shekli-kompaniya-neobuzdannye-talanty-angl-thumb.webp)