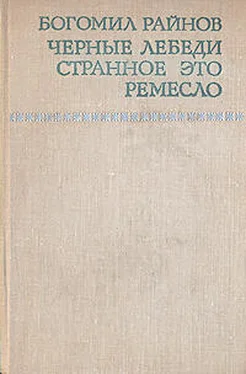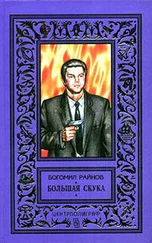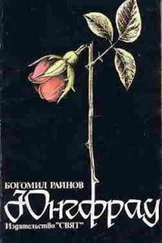— Вы работаете в гипсе?
— Именно. Это почти как в камне, но с тем преимуществом, что можно не только убирать, но и добавлять.
— Что еще поправлять в этой головке? — спросил я, показав на один из гипсов.
— Как вам сказать… Это головка моей племянницы. Думаю, что главное мне удалось — я передал структуру, форму, состояние. И все же есть нюансы, которые мне еще не даются… Надо поскоблить тут, добавить там… добиться максимального сходства — не внешнего, а сходства с тем образом, который вот тут, во мне, в котором синтезировано мое отношение…
На всех лицах в этой мастерской было выражение спокойствия и углубленности. Казалось, они всецело погружены в себя и вместе с тем всецело раскрывают себя перед нами. Так же бывает в жизни, когда человек вдруг задумается и позабудет обо всем окружающем, — в такие мгновения легче всего заглянуть к нему в душу, увидеть то, что обычно спрятано под заученным выражением, которое диктуется рассудком.
Я поделился с Жимоном этими мыслями, на что он ответил:
— Да, да. Потому что, на мой взгляд, мимолетное выражение лица — это не самое интересное, хотя для таких художников, как импрессионисты, оно важнее всего. Меня интересует сущность, а ее надо извлечь из-под многих внешних напластований, очистить от множества «живописных» подробностей, посредством которых так легко достигается сходство. Кроме того, я привык видеть все крупно — и структуру, и объем, и психологические особенности.
Он неожиданно улыбнулся той веселой улыбкой, которая неузнаваемо меняла его лицо, и продолжал:
— Поскольку в тот вечер зашла речь о Робере Ре, я вам кое-что расскажу. Однажды он зашел ко мне в мастерскую, когда я только что получил отливку одного бюста. Ре посмотрел, похвалил и, желая сделать компетентное замечание, сказал: «Какая умная техника! Вот этот штрих, например — кажется, мелочь, а какую придает выразительность!» Я взглянул: он указывал на шов, оставшийся от формы, который я просто еще не успел соскоблить…
«А вдруг я тоже успел сморозить какую-нибудь глупость? — подумал я. — Он тогда и меня ославит». Но Жимон делал это не по злобе и не из любви к сплетням, а от прямоты, к которой его собеседник быстро привыкал. Я не раз еще бывал на улице Орденер, рассматривал коллекцию скульптур, слушал остроумные замечания хозяина. Что касается хозяйки, тихой немолодой женщины, то, в отличие от мадам Босх, она была главным образом слушательницей, внимательной и сосредоточенной, как студентка, влюбленная в профессора.
В большинстве парижских мастерских можно обнаружить две-три старинные вещицы, но это не обязательно означает, что хозяин мастерской коллекционер.
— У вас великолепный Домье, — заметил я, когда впервые оказался в мастерской Громера.
Художник снял с полки небольшую бронзовую фигурку и протянул мне, чтобы я мог получше ее рассмотреть…
— Да, чудесный Домье за три тысячи франков…
— Не может быть!
— Это было еще до войны. Я купил ее у Ле Гарека, там было еще множество таких работ, все по столь же скромным ценам, и ни одного покупателя. Смешней всего, что те самые люди, которые теперь лезут из-за них в драку, раньше проходили мимо, не удостаивая их даже взгляда.
— На вашем месте я бы купил их все.
— Зачем? Я купил эту просто так, прихоти ради, мне приятно на нее смотреть. Но когда вещей много, это утомляет. Как видите, я и собственных своих картин здесь не держу. Ничто не действует так успокоительно, как голые стены. Голая стена не приковывает к себе взгляда, не отвлекает.
Этот человек был так далек от коллекционерства, от этого «тихого помешательства», что я просто позавидовал ему. Он любил искусство и сам занимался искусством, но не имел ни малейшего желания окружать себя произведениями искусства. Он жил только тем, что в изобилии накопил в себе самом.
Мне довелось познакомиться со многими настоящими коллекционерами, но излишне рассказывать обо всех, потому что по характеру своих увлечений они сводятся к нескольким основным разновидностям.
С одним из этих коллекционеров я познакомился у Карзу. Как всякий человек, который вошел в моду и старается остаться в моде, Карзу должен был вести жизнь, соответствующую требованиям света, хотя — как он сам признавался — его это до смерти утомляло. Сообразно этим требованиям ему приходилось почти каждый вечер томиться на званых ужинах, а один раз в неделю давать ужины у себя.
Вот на таком ужине я и познакомился с коллекционером, которого мне, естественно, представили не как коллекционера, а как известного адвоката. Это был лысоватый человек средних лет с проницательными глазами и большим ртом, в уголках которого всегда играла лукавая, скептическая или насмешливая улыбка.
Читать дальше