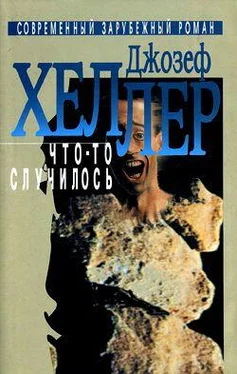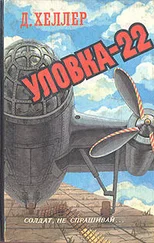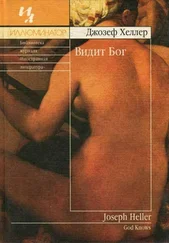– Спокойной ночи, – доносится из коридора, откуда-то из глубины, так что, когда я поворачиваю голову, мне его не видно, – он поскорей ускакивает к себе, я даже не успеваю сказать в ответ:
– Спокойной ночи. Загляни-ка на минутку. Слышишь?)
Разве что я заставлю его войти. Но если в кои веки и заставлю, нам, в сущности, нечего сказать друг другу. Он воздвигает между нами преграду. Или я сам ее воздвигаю. Но я ведь очень хочу с ним поговорить. А говорить нам не о чем. Приходится мне придумывать вопросы. Он замыкается в себе. Он вынуждает меня учинять ему допрос и отвечает односложно. Наверно, понимает, что ответы его меня по-настоящему не интересуют; похоже, самые попытки мои сердят его и делают неподатливым.
Он остерегается незнакомых людей с неприветливыми, мрачными лицами и прохожих с безумными глазами, мужчин и женщин, которые громко, возбужденно разговаривают сами с собой. (Он их всегда замечает. Многие из них чудовищно сквернословят.) Всякая неуравновешенность расстраивает его (даже моя – если я в подпитии или дурачусь на людях или с его приятелями. Он предпочитает, чтобы при посторонних я держался с достоинством). Если же в разговорах с женой или дочерью я теряю самообладание или одна из них принимается на меня орать, наша грубость, жестокие угрозы и обвинения надолго выбивают его из колеи – ссора кончена, мы уже не держим зла друг на друга, а он все еще не находит покоя. Мы с женой теперь стараемся не ссориться при детях, прежде всего из-за того, что наши стычки угнетают моего мальчика (и как от них расцветает дочь. Они ее радуют. Едва она почует, что назревает супружеская ссора, она уже тут как тут и нередко, с бескорыстным удовольствием, ловко подбросит нужное словечко, чтоб вызвать взрыв – впрочем, порой взрыв этот, который она так жадно предвкушала и которому рада была способствовать, оказывается злей и болезненней, чем она ждала, и тогда она бледнеет и в испуге спешит убраться с глаз долой. Случалось, в большом, шумном, переполненном кафетерии, или ресторане возле стадиона, цирка или торгового центра, или в вестибюле гостиницы, на вокзале или в ином крытом, огромном и гулком помещении, где мы оказываемся в толпе чужих людей, моему мальчику вдруг мерещится, что кто-то глядит на него с яростью или с холодной неприязнью и замышляет его обидеть. Он, бывало, скажет мне об этом и даже опишет, кто именно, но нипочем не осмелится снова обернуться и взглянуть. Тут же посмотрев на того человека, я обычно не мог с уверенностью сказать, что мой мальчик неправ. Но всякий раз уверял его, что ему просто почудилось. Я старался его успокоить). Есть у него привычка терпеливо и подолгу все обдумывать, мысленно подбирать ключи к тому, что в тайне его озадачило, и зачастую мне неясно, то ли он и вправду увяз в чем-то, что давит и сковывает его, то ли просто ни о чем не думает, а что ему трудно – это лишь плод моего воображения. (Это я сам делаю из него загадку. Не желаю я, чтобы его тревожило что-то такое, чего он не хочет со мной обсуждать, пусть даже среди того, что его тревожит, едва ли не на первом месте я сам. Мне не нравится, что он что-то от меня скрывает. Я бы предпочел, чтобы он со мной делился. Чтобы охотно и подробно отвечал на мои вопросы, пусть даже в этих ответах не будет ничего особенного и они окажутся для нас обоих не больно интересны. Откуда мне знать, что мысли его скучные, если я вовсе не знаю, что у него за мысли? Я бы предпочел, чтобы он сам говорил, о чем думает, еще до того, как я вздумаю его спросить. Ведь в конце-то концов, по-настоящему он единственный мой сын и, по-моему, должен бы понимать, как я в нем нуждаюсь.)
Он красивый мальчик, пытливый, добрый и всем нравится (во всяком случае, так кажется. У людей разве поймешь. Хотя он понимает. И я тоже понимаю). У него славная рыжая головка, бледная кожа, он узок в плечах и в кости, обладает чувством юмора, проказлив и смышлен. Сложения он некрепкого. Строен. Здоров. (Нам приятно, что он такой, дочери теперь тоже приятно, хотя прежде она завидовала ему и злилась, и всем нам одно удовольствие поговорить о нем со знакомыми.) Вырвать у него жалобу иной раз не легче, чем выдрать зуб. (Мы склонны думать, что он доволен жизнью, а редкие случаи непослушания или уныния приписываем строптивости, усталости, простуде и повышенной температуре либо считаем, что это естественно и вполне терпимо, ведь ни один ребенок не может вечно быть паинькой.) Он всегда был хороший малыш, и сейчас хороший. Иногда жена или я вслух с гордостью размышляем, что он прямо сказочно хороший, даже не верится (и правильно не верится! Что-то с ним неладно, и я, пожалуй, всегда это знал, хотя у меня никогда не хватало мужества высказать эту мысль или даже просто признаться в ней самому себе, я поспешно от нее шарахаюсь. Жена беспокоится только об одном: как бы он не вырос гомосексуалистом, хотя для этого нет ровным счетом никаких оснований. Меня это беспокоит куда меньше.
Читать дальше