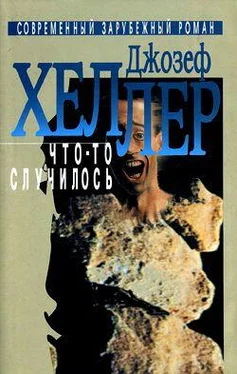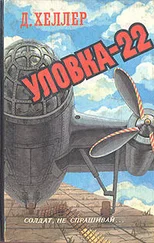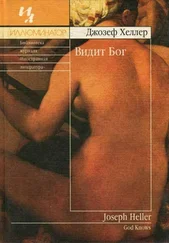– Его ты любишь больше меня, – сказала однажды дочь.
– Нет, – солгал я: мне далеко не всегда хочется брать над ней верх, и мне кажется, она иногда ничего уже не ждет от жизни, и в такие минуты я ловлю себя на том, что молча горюю подле нее, как подле открытого гроба или могилы, в которой уже похоронено ее будущее. (Ей еще нет шестнадцати – прелестный возраст, – но нам обоим иногда кажется, что для нее уже все потеряно. Когда же это случилось?) – Но ты должна согласиться, детка, во многих отношениях он куда милее.
– Знаю.
Эти разъедающие душу семейные ссоры, которые так злонамеренно затевает дочь, вовсе не забавны и далеко не всегда кончаются для нас с женой любовными утехами, а для детей взрывами веселья и хохотом. Эти ссоры мучительны, особенно для нее самой. Хоть бы она записывала свои впечатления о прочитанных книгах или решала хитроумные головоломки, когда ей некуда девать время и нет занятия поинтереснее. (Хоть бы влюбилась, что ли.)
Но она ничего не может с собой поделать.
(Это у нее выходит против воли.)
Точно некое коварное, порочное и недоброе существо, которое так и норовит подо все подкопаться, все разрушить, она не может не разжигать страсти. Мне (нам) неведомо, что из того, о чем она мечтает, мы, по ее мнению, можем ей дать (она мечтает быть красивой, тонкой и гибкой, как тростинка, блестящей, знаменитой, богатой и талантливой – и кто бросит в нее за это камень? Мы бы тоже были рады, окажись все это при ней. Возможно, она это знает. Но мы можем обойтись и так), и она ничего нам не говорит. Она сама не знает. Иногда она попросту, безо всякой воинственности делится с нами, исповедуется. Стоит перед нами вялая, пристыженно повесив голову, и из самой глубины души выдавливает слова – негромко, уныло и скучно тянет:
– Мне нечем заняться.
Когда жена слышит, что дочери нечем заняться, у нее разрывается сердце.
У меня – нет, я себе этого не позволяю.
Дочь грызет ногти, и, вероятно, это тоже моя вина. (Все-таки занятие. Мой мальчик сутулится – как я.) Она стала грызть ногти лет с пяти. Мой мальчик во сне сосал большой палец руки, и на суставе вздувалась белая шишка (цвета плесени или омертвелой кожи), она мешала ему участвовать в играх и, напоминая днем, откуда она взялась, заставляла чувствовать себя заклейменным. Отучить его от этой привычки никак не удавалось. На ночь мы завязывали палец бинтами, пропитанными какой-нибудь вонючей дрянью, но он все равно сосал. Мы даже пускали в ход мерзкую на вкус жидкость, с помощью которой прежде безуспешно пытались помешать дочери грызть ногти. Толку из этого не вышло, она и по сей день грызет ногти. Как ему все-таки удалось перестать, не понимаю: попробуй пойми, как можно заставить себя перестать что-либо делать во сне. (Нередко мне удается прервать неприятный сон: при первых же зловещих аккордах я разом просыпаюсь, точно по хорошо знакомому сигналу тревоги, – подобно опытному цензору или кинопродюсеру, я при первых же признаках перекоса в моем сновиденье могу скомандовать: «Вырезать!» – и сон пойдет крутиться совсем в другом направлении. «Нет уж! Только не это», – обычно говорю я себе и до тех пор не даю спуску дремлющим силам ума, пока сон не развернет передо мной картины, которые мне больше по вкусу. Тогда уже можно расслабиться, без опаски дать им волю и снова заснуть. Оборвать эти непрошеные сновидения удается лишь в том случае, если они начинаются, когда я только еще засыпаю и не успел окончательно забыться. Удается это не всегда, и, точно беспомощный младенец, я лежу во тьме, а сны безжалостно свирепствуют во мне, словно мой мозг так же беззащитен, как у этого крохотного, безрукого, безногого младенца, который еще скованно, недвижимо покоится в люльке или во чреве матери. Я терпеть их не могу. Я их забываю. Они оставляют следы. Они посещают меня слишком часто. Стоит мне захотеть, и они тут как тут.)
(Столько есть такого, о чем я боюсь узнать.)
Дочь моя плохо спит, и, если не считать коротких, беспричинных вспышек, когда она блаженно, безудержно весела и с упоением строит воздушные замки (вспышки эти столь внезапны и сумасбродны, что кажутся болезненными), она склонна видеть себя и свое будущее в самом мрачном свете. Ее легко встревожить, и она нередко впадает в панику. Она, вероятно, девственница. (Если бы она лишилась девственности, она бы мне сказала. Когда это случится, она, уж конечно, мне доложит – чему быть, того не миновать, все чаще себе это представляю и безрадостно жду того дня или вечера, когда она заявится с этим сообщением, чтобы лишний раз надо мной поиздеваться. Что мне тогда сказать? Я, разумеется, отшучусь, преуменьшу значение совершившегося, чтобы не толкнуть ее либо на неразборчивость и развращенность, либо на холодность и воздержание. Ну и задача.
Читать дальше