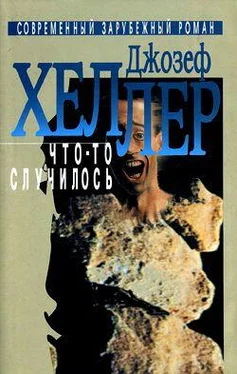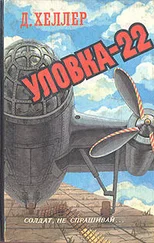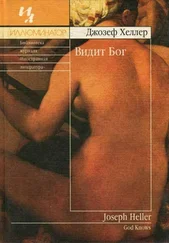Напрасно я передал жене, что, как мне кажется, сказала мне перед смертью моя мать. (И напрасно я говорил во сне «фиговинка». Теперь она еще и этим будет меня попрекать.) Не знаю, с чего я когда-то вообразил, будто могу ей верить. (Всякий человек должен раз и навсегда решить ничего сокровенного не доверять жене.) Я даже не вполне уверен, что мать так и сказала. Не уверен, что она меня узнавала в последние разы, когда я навещал ее в доме для престарелых и молча просиживал у ее изголовья каких-нибудь двенадцать, даже десять минут, – разве что узнавала в первое мгновенье. Тогда я уже не приносил ей копченой колбасы, и рыбы, и сластей – она больше ничего не могла есть. Я не развлекал ее пустопорожней болтовней. Она больше не слышала. Чаще всего я даже сомневался, видит ли она, что кто-то сидит рядом, хотя ее глаза были обращены на меня.
– Ты никуда не годишься, – сказала она. Беззвучно. Слова можно было угадать по движению губ, по еле слышному дыханию. Изумленный, я наклонился над ее запавшим ртом (уже сил не было на него смотреть) и переспросил, что она сказала. – Ты просто никуда не годишься.
Кажется, то были ее последние слова, обращенные ко мне. Проживи я хоть сто девяносто лет, больше я от нее не услышу ни слова. И если мир будет существовать еще три миллиарда лет, ничего другого она не скажет.
Да разве таковы должны быть последние слова умирающей матери, обращенные к сыну? Даже если он уже взрослый, женатый человек, отец троих детей. Услыхал я эти слова, и мне стало куда жальче себя, чем ее. Она все равно умирала.
А мне надо было жить дальше.
Не знаю, с чего я взял, будто это безопасно – довериться жене. Сперва я долго молчал. Так тяжело было на душе. Весь мир казался ржавой жестянкой. В детстве мы свертывались клубком внутри старых, брошенных автомобильных шин и пытались катиться в них по улицам, идущим под уклон. Ничего не получалось. Мастерили самокаты на роликах. Было гораздо проще ходить пешком. Я падал, мама подхватывала меня на руки, целовала, известно ведь: «крошка ножку ушибет, мама – чмок, и все пройдет».
Не надо было ничего рассказывать этой суке. Суки всегда такое запоминают.
Мозговые оболочки. (Мозговые мои оболочки, вы меня доведете до точки.) У меня три мозговые оболочки. Они окружают мозг снаружи. Первая из них, внутренняя, называется мягкой. Это очень нежная волокнистая ткань, пронизанная густой сетью кровеносных сосудов (наверно, там полно вен и капилляров). Я чувствую, как на эту оболочку что-то давит изнутри. Там вскипает, пузырится, напирает всякая всячина, оболочку того гляди разорвет. Иногда мне это напоминает плавленый сыр. Мягкую оболочку подкрепляют еще две – паутинная и твердая, они сдерживают напор моего рвущегося вширь мозга, сжимают его. Иногда это больно. Мягкая оболочка иначе называется pia mater, это неточный перевод на латынь арабских слов, которые означают (ха-ха) «любящая мать».
Мой мальчик больше со мной не разговаривает
Мой мальчик больше со мной не разговаривает, и я, кажется, этого не вынесу. (Похоже, он меня не любит.) Он перестал мне доверять.
Порой он меня отталкивает, и я чуть не плачу. Все время помню, как он резко меня оттолкнул, и сердце разрывается. Почему он перестал со мной говорить? Я хочу быть ему лучшим другом. Неужели он не понимает, что я люблю его, наверно, как никого на свете? Он рассказывал, раньше ему часто снилось, что дверь нашей комнаты заперта и он не может войти и увидеть нас. А теперь мне часто снится, что заперта дверь его комнаты и я не могу войти и увидеть его.
Вечером он отправляется спать и закрывает дверь, даже не пожелав мне спокойной ночи.
У меня голова идет кругом, все чувства засасывает какая-то воронка, водоворот. Мой мальчик уже не приходит ко мне так часто, как прежде, со всякими вопросами, и я теперь не знаю, о чем он думает, с кем дружит, какие игры больше любит, что ему трудно, когда он в школе и когда готовит дома уроки. Я расспрашиваю о Форджоне. И мой мальчик сердится на меня за это. Невозможно вытянуть из него ни слова сверх того, что он сам захочет рассказать, – это значит его оскорбить, или уж остается тайком кого-то о нем расспрашивать. (Уж не кажется ли ему, что я за ним шпионю?)
Однажды вечером он возвращается домой, когда уже стемнело, опоздав к ужину, глаза блестят, на щеках здоровый румянец, он весь разгорелся от движения, радостно взволнован и очень хорош собой.
– Сегодня в школе я лазал по канату, – объявляет он. – Почти до самого верха долез. Черт возьми. Наверняка мог бы коснуться потолка – если б хватило смелости держаться одной рукой, я бы дотянулся.
Читать дальше