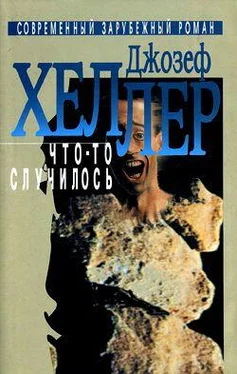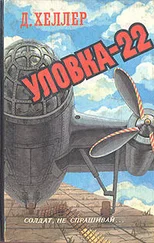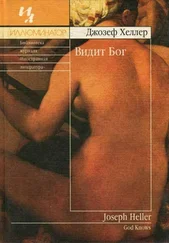Никуда от этого не денешься
Надо от него избавиться. Никуда от этого не денешься. (Он такой милый. Кто его ни увидит, все говорят, какой он милый. С их стороны очень мило, что они так говорят.)
Надо от него избавиться, а я не знаю как. И спросить некого. Никому я не могу сказать, что хочу этого, даже собственной жене, которая тоже хочет от него избавиться (но не смеет сказать мне об этом). Особенно жене. В том, что он такой, мы виним друг друга, если не считать часов, когда каждый винит себя, и об этом тоже мы пока не в силах друг другу сказать.
– Это твоя вина, а не моя.
И волей-неволей притворяемся, что тут никто не виноват и он такой по несчастной случайности, это нечаянный промах самой природы, ее ляпсус. Все мы хотим от него избавиться, но только у дочери хватает честности говорить об этом прямо (и за это кто-нибудь из нас всегда на нее набрасывается).
– Неужели нам до скончания века надо его тут терпеть? – сердито жалуется она.
– А тебе что? – огрызаюсь я, как будто она просто хотела меня уязвить. – Ты уедешь в колледж.
(Пожалуй, она останется дома просто мне назло. Иногда мне кажется, если бы не Дерек, мы все никогда бы не ссорились. Но это, конечно, неправда.)
Наследственность у него как будто не по моей линии. Может быть, по линии жены. В моей семье, насколько я знаю, слабоумных не было (и в ее семье тоже). Жена всегда умоляет меня не говорить этого слова (наверно, потому-то я его и употребляю. И ее каждый раз передергивает).
– А как прикажешь это определять? – изображая ангельское терпение, высокомерно спрашиваю я. – По-твоему, если я стану называть его гением, он поумнеет?
– Это жестоко. – Жена вздрагивает, бледнеет, чуть не плачет. – Это низко. Когда ты такой бессердечный, мне становится страшно.
Просто безобразие, как я умудряюсь подолгу о нем забывать, даже когда он тут же, рядом. (Выкидываю его из головы и уж стараюсь не вспоминать.) Считаю, что у меня только двое детей. Одна говорит:
– Что ты будешь делать, если я приведу в дом черного дружка? И захочу выйти за него замуж?
Другой спрашивает:
– Что бы ты со мной сделал, если б я не умел говорить?
– Но ты же умеешь, – отвечаю.
– А вдруг я на гимнастике не сумею взобраться по канату, и упаду, и расшибу голову, и мистеру Форджоне придется отнести меня домой, и я больше не смогу говорить, тогда как?
– Когда-то я тоже боялся лазать по канату, боялся упасть, – говорю я, пытаясь его подбодрить. – А в старших классах боялся плавать в бассейне нагишом.
– Ни про какой бассейн и про плавание нагишом я не говорил, – возмущается он (похоже, этот страх еще не укоренился в нем, и я только сейчас заронил первое зерно). – Не говорил, верно?
Я смущен.
– Вот я получу водительские права, закажу себе ключи и, когда тебя нет дома, стану брать машину, – говорит дочь. – Ты же не сможешь мне помешать, верно? Что ты тогда сделаешь, добьешься, чтоб меня арестовали?
Третий совсем со мной не говорит.
Приходится вести разговоры, как будто мне вовсе не свойственные.
Чувство такое, словно нет твердой почвы под ногами. Хожу, не ощущая почвы под ногами, болит голова, как будто не моя, – головные боли мне несвойственны (а вот ноги очень даже мои. Ступни так болят, будто разламываются, на одной пятке у меня «шпора», средние пальцы сплющены, остальные искривлены, мне то и дело нужен мозольный пластырь; если постоянно не менять носки и обувь, мякоть пальцев снизу воспаляется; в холодную погоду ступни зудят; кожа между изуродованными кривыми пальцами трескается и лупится, и надо присыпать ее тальком. Счету нет моим бедам). Подчас мне кажется, я разъединен с собственными ногами и собственным прошлым. Связь с прошлым – точно не слишком надежный кабель; она недостаточно прочна и крепка, она неустойчива, обрывается, тускнеет, кое-где она истерта до тонких, хрупких нитей, они легко рвутся. Многое из того, что я помню, словно бы уже мне несвойственно. Похоже, в моей истории недостает громадных кусков. Разверзаются провалы, наверно, в них рухнули немалые доли моего «я». Далеко не всегда я знаю, где же я в эту минуту нахожусь. Сижу на работе, а воображаю, будто я дома. Сижу дома у себя в кабинете, а воображаю, будто я на работе – увольняю Джонни Брауна или отправляю на пенсию Эда Фелпса, – либо в банке, в гостиничном вестибюле или в полицейском участке – тщетно шарю по карманам и не могу найти нужные документы. Может быть, я уже разговариваю сам с собой вслух и даже не замечаю этого. Как унизительно. Никто мне ничего такого не говорил, но, наверно, я ничего такого и не делаю при тех, кто мог бы мне об этом сказать. Наверно, это бывает только тогда, когда мне кажется, что я один. Может быть, я уже выживаю из ума, но все так добры, что ничего мне не говорят. Нет, люди совсем не добры и, конечно, сказали бы. (А может быть, мне уже говорили, но я настолько выжил из ума, что не помню об этом. Ха-ха.)
Читать дальше