– Пушкин? – услышал он. Осаживая крупную, шоколадной масти собаку, породу которой трудно определить даже на трезвую голову, перед ним стоял школьный король Валентин Оврагов.
– Здоро́во, – просипел Пушкин, глотая снег. Собака зашлась обличающим лаем.
– Да ты пьян! – обрадовался Валентин. – Она только на алкашей лает. Молчи, Грусть!
– Как её зовут?
– Грусть, – гордо сказал Оврагов, подтягивая поводок вместе с псиной ближе к ноге. – Это мамаша придумала. Стильно, да? А ты где так набрался, чубзик?
– На свадьбе, – с трудом произнёс Пушкин и упал в сугроб. Грусть лаяла во всю силу, но Аркашон не мог встать, и лишь болезненно жмурился.
Потом чьи-то цепкие и надоедливые пальцы тянули за куртку, его выворачивало наизнанку снова и снова, и он очень долго куда-то шёл и без конца читал стихи, а снежная земля вставала перед ним стеной и давала со всей мочи в лоб, и Грусть уже не лаяла, а выла… Очнулся Аркашон в чужой комнате, с мокрой тряпкой на лбу. Напротив сидела прекрасная незнакомка критического возраста и смотрела так скорбно, словно бы у неё скончались в один день все родственники.
– Вы кто? – спросил Пушкин, в голове которого, как загнанные зайцы, метались оборванные воспоминания.
– Я? – удивилась незнакомка. – Я Валечкина мама, Инна Иосифовна Оврагова-Дембицкая.
– А я Пушкин Александр Сергеевич, – сказал Аркашон, засыпая.
Валентин Оврагов растолкал его приблизительно в полночь. На подносе дымилась и гадко пахла чашка растворимого кофе.
– Восстань, поэт, и виждь, и внемли! – продекламировал Валентин. – Самое время вернуться домой, а то родители поднимут бучу. Не у всех же такие мамы, как моя! Да, Юлечке (Пушкин ревниво вздрогнул) я позвонил, она уже дома и почти не плачет. Ты там, конечно, наворотил, старик!
Аркашон поднялся на локте и взял чашку. Гадкий кофе и молодой крепкий организм на глазах побеждали похмелье. Валентин разглядывал ночного гостя.
«Я дома у Оврагова!» – осознал вдруг Пушкин, внутренне возгордившись – на его месте желали бы оказаться многие соученики и особенно соученицы. Но, как часто бывает в жизни, Аркашон не сумел насладиться выпавшим ему счастливым моментом: нужно было срочно лететь домой, иначе отец вспомнит детство и всыплет ему ремнём, как маленькому.
Аркадий вспомнил отца – недовольного, с поджатыми губами, с резкими морщинами на лбу. Представил себе маму: если бы с неё написали честный портрет, получилась бы карикатура на угнетённую домохозяйку. А вот с Инны Иосифовны Овраговой-Дембицкой можно писать «Портрет дамы», решил Пушкин. Он понимал, что завидовать Валентину бессмысленно: в нём всё было прекрасно – и лицо, и одежда, и душа, и мысли, и мама, и Чехов на полке в тёмно-синих переплетах… А ведь Пушкин в ту ночь не мог по достоинству оценить уютную квартиру Овраговых – обычно всем, кто попадал в это жилище, хотелось укрыться в нём, как в берлоге, и перезимовать, даже если на дворе стояло лето.
– Мы тебя проводим, – сказал Оврагов, с прежним вниманием наблюдая, как протрезвевший Аркашон пытается застегнуть «молнии» на тяжёлых зимних ботинках. Грусть, услыхав заветное «мы», притащила в зубах длинный кожаный поводок и вопросительно глянула на хозяина.
– Только недолго, Валечка, – взмолилась Инна Иосифовна. – До свидания, Аркадий.
Пушкин неловко кивнул и закрыл за собой дверь. Валентин с собакой догнали его на выходе из подъезда.
Двор был абсолютно незнакомый и не по-ночному светлый благодаря мощному фонарю рядом с катком. Разумеется, во дворе у Овраговых имелся свой собственный каток. И фонарь.
– Ты вот что скажи, Пушкин. У тебя с Юлечкой серьёзно?
Пушкин дёрнул плечом. Какое уж там «серьёзно» после сегодняшнего? Теперь она и смотреть в его сторону не станет.
– Такие люди, как Юлечка, – сказал Валентин, – это мещанская кость. Они не такие, как мы с тобой. Им интересно только покупать и жрать, а в старости они начинают ругаться с соседями и жить с телевизором, как с мужчиной. Воспарять им – некуда.
– Ты-то откуда знаешь? – грубо спросил Аркашон. Шоколадная Грусть послушно семенила у ног хозяина, а он вдруг остановился, достал сигареты и умело, по-взрослому, закурил.
– Дай мне тоже, – попросил Аркашон. Он с детства был неравнодушен к курению, и уже в начальной школе бесил отца, «раскуривая» понарошку карандаши и фломастеры. Валентин не глядя протянул ему пачку. Шёл мелкий, словно бы просеянный через сито снег.
Они курили всю недолгую дорогу до Аркашиного дома, где бегал взбешённый отец, хватаясь то за ремень, то за голову. Мать молча, как памятник, стояла у окна и равнодушно, как всякая смертельно уставшая женщина, вглядывалась в даль.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Анна Матвеева Есть! [litres] обложка книги](/books/28219/anna-matveeva-est-litres-cover.webp)




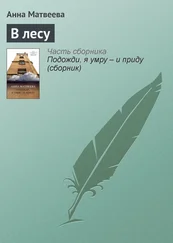


![Анна Матвеева - Каждые сто лет. Роман с дневником [litres]](/books/430781/anna-matveeva-kazhdye-sto-let-roman-s-dnevnikom-l-thumb.webp)
