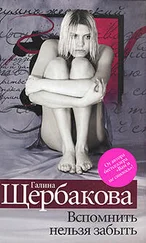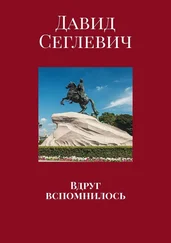Его судьба почти не касалась нас, студентов, и, в общем, не совсем к месту рассказывать здесь о нём. Но эхо этой судьбы как-то странно повлияло на мои экзерсисы по части правдолюбия и что-то помогло понять, поубавив юношеской спеси.
Студенты – народ довольно поверхностный. Мы любим преподавателей ярких, умеющих блеснуть словом, и, как удочка блесной, острой фразой, парадоксом подсечь дремлющий ум аудитории. А уж если преподаватель душка, да не дурак, и умеет дать понять, как он ценит своих слушателей, то трудно удержаться и не клюнуть на эту наживку и счастливо отдаться во власть взаимного обаяния.
Сушков был, в самом деле, незаметной фигурой. Бесцветный внешне и в поведении, он ещё более проигрывал рядом с блистательным доктором философии, молодым (сам недавно из студентов) Львом Каганом. При нём он как бы и состоял, как нам казалось, руководя семинарами, где разжевывал доступным языком высокие философские постулаты, преподанные профессором на лекциях.
К слову, их, Каганов, в годы моего обучения в университете было двое. Другой – тихий, скромный, недавний фронтовик, впрочем, тоже любимец студентов, Борис Каган уступал в популярности карнавально яркому философу, что дало нам, острякам из сатирической вузовской стенгазеты, повод выдать однажды афоризм: «Не всякий Каган Лев». (Это вызвало между Каганами дружескую пикировку: «второй» Каган парировал – Лев, де, в афоризме написан с большой, а не с маленькой буквы…)
Рядом с такими яркими фигурами Сушков, как уже сказано, был серой тенью. Он и сам не высовывался, тихо и довольно монотонно ведя семинарские занятия, где при удобном случае погружался полумечтательно в подробности античного периода своего предмета. Древний Рим и римляне, говорят, были его слабостью, он питал к ним симпатию, и считался специалистом по древним философам. Так или иначе, от него мы почерпнули первые, не очень обязательные, но колоритные детали из жизни ранних гениев человечества. И про обычай принимать чашу с ядом по приговору сената, что благородно совершил великий Сократ, и про Сенеку, покончившего с собой изысканным способом, - погрузившись в тёплую ванну, он вскрыл себе вены…
Впрочем, и интересные факты он излагал, как нам казалось, скучновато.
Не добавил ему популярности и житейский эпизод, который не то, чтобы уронил его в глазах студентов окончательно, но дал пищу для иронической байки, долго передававшейся из уст в уста.
Наш университет размещался в разных зданиях, достаточно удаленных друг от друга, так что преподавателям приходилось мигрировать между аудиториями. Как-то во время перехода из здания в здание мирно бредущие по тротуару философы были атакованы хулиганами. Чем мирные учёные не понравились им? Может, своим видом: один был в шляпе, а другой в очках. Дело было возле бани, что, возможно, объясняет агрессию. В бане торговали пивом, и, похоже, любители выпить сто грамм с «прицепом», то есть, водку с пивом, там и накачались. Короче, философов стали бить. Говорят, били хорошо, - откуда им было знать, что перед ними светочи философской мысли, научная гордость миллионного города! А, может, потому и били так старательно. Лев Каган ещё пробовал как-то отбиваться, невпопад размахивая руками. Что же до Сушкова, то Сушков, воспитавшийся, как и все мы, на многолетней интеллигентской послушливости, удары кулаков, воспринял, как удары судьбы, с безропотной покорностью и… Вот тут он и произнёс фразу, которая стала знаменитой. Закрыв лицо руками, он попросил вполне покладисто: «Подождите, пожалуйста, я сниму очки».
С завершением курса философии образ этого человека понемногу отошёл в прошлое. И вдруг полоснул через год наше воображение с неожиданностью.
«Серый и серый»… И вот узнаём:
Сушков заперся в номере гостиницы, лёг в тёплую ванну и вскрыл себе вены… Случилось это в Крыму, где он собрался провести отпуск с женой, но не дождался её: он узнал, что жена ушла к другому.
Говорят, он не оставил никакой записки. Это похоже на него, всегда державшегося в тени и избегавшего пафоса.
Ещё говорили, - по другой версии, - что ушёл из жизни он не из-за несчастной любви. Или не только из-за этого, так сошлось, одно к одному. Говорили, что однажды случай и любознательность свели его с новой, запретной тогда у нас, но очень модной на западе философией - экзистенциализмом. Его марксистко-ленинская теория, практика и эрудиция не выдержали столкновения. Основы, цель и смысл жизни были потрясены. Впереди - тупик: о преподавании нового не могло быть и речи, а вера в старое дала трещину. Вот уж, как не вспомнить тут слова: мир раскололся надвое, и трещина прошла через сердце поэта.
Читать дальше