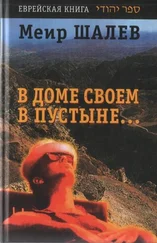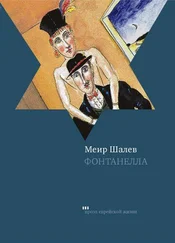А Папаваш, послушно выполняя свою роль в следующем акте той же пьесы, открывал пакет и совал в него и рот и нос вместе. Его веки начинали трепетать и после недолгой и тщетной борьбы смыкались от удовольствия. Я помню долгий вздох и его руку, которая каким-то чудесным образом казалась решительной и неуверенной одновременно. Он протягивал нам кусок пирога, так и не набравшись смелости его выбросить:
— Берите. С меня достаточно, что она ушла, других удовольствий мне уже не нужно.
«Я не могу больше!» Иногда ее голосом, иногда своим, иногда — шумом ветра в тех больших деревьях, которые, как она мне велела, растут вокруг моего нового дома. Решила, объявила, взяла свои вещи, патефон, пластинку с любимыми Дидоной и Энеем и их красивой прощальной песней — про себя я называл ее «remember mе», потому что это были два единственных слова, которые я в ней разобрал, — поднялась и ушла.
Принимая решения — «за-за» или «за-против» — по хозяйственным вопросам, она складывала деньги, пересчитывала наличные и сбережения. Принимая решения по поводу гостей, она пересчитывала едоков, картофелины и ножи. Но что ты считала и складывала тогда, мама? Что считают перед расставанием?
5
Из Тель-Авива я помню немногое. Как я уже рассказывал, мы жили на улице Бен-Иегуды, недалеко от кинотеатра «Муграби», который в те дни еще стоял в целости и сохранности. К двери кабинета Папаваша на первом этаже была привинчена маленькая медная табличка: «Доктор Яков Мендельсон — детский врач».
На втором этаже, на дверях нашей квартиры была привинчена другая маленькая медная табличка, и на ней стояло: «Я. Мендельсон — частная квартира».
Недалеко от нашего дома было и кладбище на улице Трумпельдора, и ты водила нас туда — показать имена поэтов, выгравированные на памятниках. Биньямин играл среди могил, а я поднимал на тебя глаза и повторял за тобой имена. Иногда мы ездили на северный конец улицы и поднимались оттуда к Яркону, берега которого тогда еще не были застроены, и Папаваш находил там место для пикника — «красивое место с тенью», по его выражению. И в зоопарк мы тоже ходили, но только мы с тобой вдвоем и только один раз. Там у входа был вольер, а в нем гигантские черепахи, и я запомнил имена льва и двух львиц — «Герой», «Тамар» и «Долли».
Из кустов вышел на нас павлин, волоча за собой по пыли огромный хвост, и закричал ужасным голосом. Я хотел посмотреть на обезьян, но ты сказала: «Пошли дальше, Яир, я их терпеть не могу». Мы поднялись вверх по тропе. За бассейном водоплавающих птиц, участком для слона и голубятней были несколько детских аттракционов, такой маленький луна-парк, сплошное убожество. Ты стояла и смотрела вокруг, а когда мы повернули назад к выходу, появился очень толстый человек и поздоровался с тобой. Я не мог отвести взгляд от его громадного живота и сказал тебе: «Мама, мама, смотри, какой толстый человек…» — а он снял фуражку, поклонился и сказал:
— Я не просто толстый, я самый-самый толстый здесь человек, я — знаменитый Толстяк из Зоопарка.
Павлин снова закричал. Из-за забора слышались ликующие вопли в соседнем плавательном бассейне. Ты сказала: «Когда-то из этого бассейна поливали цитрусовые деревья». А когда мы вышли, по улице шла небольшая процессия мужчин и женщин под красными флагами. Ты сказала:
— Сегодня первое мая. Давай вернемся, Яир.
Я не раз прохожу тем путем и сегодня, когда по привычке бесцельно кружу по городу. Из дома на улице Спинозы, который купила нам Лиора, выхожу на бульвар Бен-Гуриона, прохожу мимо молодых пар, что стоят и разговаривают у киоска со свежими соками, и снова, как всегда, поражаюсь их одинаковости: у каждой пары собаки и дети одинаковой красоты, каждый парень — копия своего приятеля, каждая- девушка — копия рядом стоящей, каждый мужчина похож на супругу соседа, а каждая женщина — на своего мужчину.
Я сворачиваю направо в память о том посещении зоопарка. Иногда я вхожу через «здесь-тогда-были-ворота», а иногда через «теперь-тут-уже-нет-забора» и снова поворачиваю направо, проходя большую площадь, где уже срублены прежние цитрусовые деревья и сикоморы, а песок задохнулся под настланными поверху плитками. Я пересекаю улицу Фришмана, миную магазин французской книги, выхожу на площадь Масарика и замедляю шаг, проходя через маленькую, уютную детскую площадку — здесь всегда сидят несколько молодых матерей со своими детьми, и я гадаю про себя, кто из этих детишек вырастет и напишет о своей матери и кто напишет в форме «она», а кто в форме «ты», кто назовет ее «мать» и кто — «моя мама».
Читать дальше