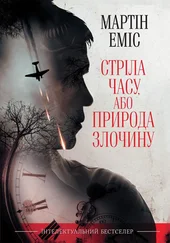Однако при этом часто упускают из виду, что сверхзадачей автора, живописующего хаос, является приведение его в гармонию. Точнее, это даже не сверхзадача — это, так сказать, побочный продукт художественного творчества. Портрет энтропии всегда содержит в себе усилие ей противостоять, независимо от субъективных устремлений художника.
Второй — но не менее важной — приметой постмодернизма является активное использование «чужих» текстов, их освоение, преобразование, включение в свою систему знаков. То есть постмодернист познает мир не напрямую, а опосредованно; его денотатами становятся не черты реальности, но их отображение в предыдущем художественном опыте человечества.
Глобальное цитирование, интерпретация, установление новых связей между старыми текстами (как чужими, так и своими собственными) — все это действительно признаки постмодернизма, однако при возведении их в абсолют получается, что постмодернистом может считаться любой переводчик художественной литературы, ибо он тоже имеет дело не с реальностью как таковой, но с реальностью, воспринятой и описанной другим автором. Но, впрочем, Д. М. Томас, касаясь в романе «Арарат» проблемы плагиата, так и говорит: « Все искусство представляет собой сотворчество, перевод, если угодно. Но плагиат — это совсем другое».
Дело в том, что приемы постмодернизма в некоторой степени сходны с кинематографическим монтажом. Сергей Эйзенштейн (который, между прочим, определяя природу собственного искусства, называл его «ироническим по форме, трагическим по содержанию», то есть, иными словами, сам был своего рода постмодернистом) в трактате «Монтаж» утверждал, что художественный смысл порождают не только кадры фильма как таковые, но и последовательность их стыковки между собой. Упрощенно говоря, уже из двух кадров можно получить два оригинальных произведения, из трех — шесть и т. д. В число задач, стоящих перед художником, входит выбор одной-единственной комбинации из бессчетного множества возможных вариантов (вот, кстати, пример из романа: « Я всегда полагал, что начну с той, кому предначертано быть убитой, с нее, с Николь Сикс. Но нет, это уже не кажется вполне правильным. Начнем-ка мы с плохого парня. Да. С Кита. Начнем-ка с убийцы» — таковы были слова Сэма перед тем, как он окунулся в первую главу).
Вполне понятно, что в результате столкновения цитат, аллюзий и собственного текста высекаются совершенно новые, сугубо авторские смыслы. Всю эту паутину исследовать не только бессмысленно, но и невозможно; однако же попробуем вкратце рассмотреть, к каким «поставщикам» обращался Эмис для постройки здания своего романа.
4.1. Апокалипсис
Выше уже приводился ряд отсылок к Библии, в частности к Апокалипсису. (Характерно также и то, что питейный клуб Кита называется ни много ни мало «Голгофа».) Светопреставление в романе выступает под псевдонимом Кризиса. Вот как о нем размышляет Сэм, сопоставляя «реальные» признаки Кризиса с образами из Апокалипсиса: « Достигнет ли он того разрешения, какого, как представляется, он вожделеет, — достигнет ли Кризис своего Разрешения? Может, это заложено в самой природе зверя? Поглядим. Я, конечно же, надеюсь, что нет. Я потеряю многих потенциальных читателей, и вся моя работа окажется напрасной. Такая вещь — вот она и стала бы настоящей блудницей».
Как видим, указатели на библейские тексты носят, как правило, пародийный, комический характер. Вот один, очень неявный (а возможно, и спорный) намек на Новый Иерусалим, описываемый в Апокалипсисе: зажигалка и пепельница, украденные Китом у Марка Эспри. Вместо «чистого золота» здесь фигурирует золоченая бронза, вместо «ясписа» (яшмы) и тому подобные роскошества — оникс, но самое главное состоит в том, что Кит пренебрегает этими вещицами, не пользуется ими, прикуривая сигарету от окурка предыдущей, а его сует в пустую банку из-под пива. Этот эпизод заставляет вспомнить еще одну многозначительную цитату, приведенную задолго до него:
— Кто имеет, тому дано будет, — сказала Николь, — а кто не имеет, у того отнимется. Так говорится в Библии…
В том же ряду стоит и парафраз Вифлеемской звезды — сообщение о грядущей вспышке сверхновой не вызывает у Сэма ничего, кроме раздражения и недоумения: « Как можем мы что-то узнать о сверхновой, пока ее не увидим? Ничто, никакая информация не в состоянии достичь нас со скоростью, превышающей скорость света. Там, наверху, установлен предел скорости. По всей вселенной развешаны окаймленные красным ограничительные знаки: 300 000». Но если вдуматься, то Второе Пришествие, которого «ожидают со спокойной уверенностью», оказывается, давно уже состоялось, однако — «по частям». «Каждый из нас по-своему лошадь», — писал Маяковский. Вот и каждый из персонажей, распятых на «черном кресте», по-своему… как и все остальные… Но не будем — всуе.
Читать дальше
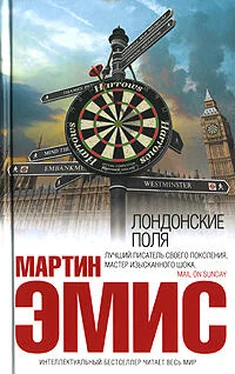
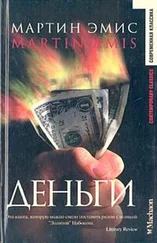
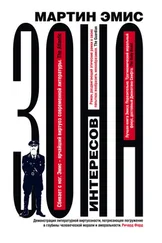
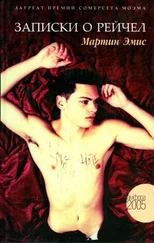
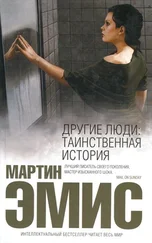
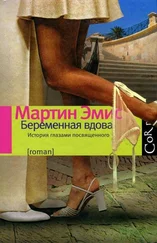
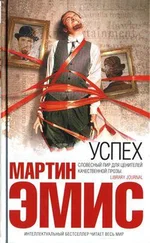
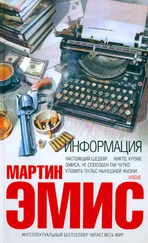

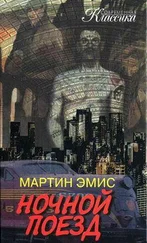

![Ингвар Мартин - Волшебные Поля [СИ]](/books/396383/ingvar-martin-volshebnye-polya-si-thumb.webp)