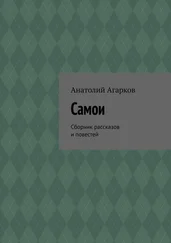– Не пойдёшь с нами креститься, зюза подзаборная, вот те Бог, вот те порог. Дуй из Кедровой Пади куда твои шары бесстыжие глядят. Чтоб ни слуху ни духу… И деды наши, и прадеды – без Бога ни до порога, и мы с имя. Так что, думай, Кеша, кто тебе родней, Бог или Карл Маркс?.. Может, батюшка и от пьянки бы тебя отмолил…
В последние лихие времена стал Кеша Чебунин исподтишка сомневаться в Карле Марксе, а пуще того – в Ильиче, подле которого кружила нерусь вроде Аверьяна, что обратился вороном; кружила та нехристь, измывалась над русским народишком, пока Сталин не помёл поганой метлой. Кеша даже сочинил отчаянный стих, который читал одышливым шёпотом, по-заячьи стреляя юркими глазами:
Хоть матушку-репку вой,
або в прорубь вниз головой —
вижу в ящике «голубом» инородца,
денно и нощно над Русью смеётся.
Рвёт её душу и мрачно кружит,
словно ворон, зловещий жид.
Но когда же, братья, когда
открестится Русь от жида?..
Шибче аверьяновой сивухи пробрал Кешу своеручный стих, слёзы текли по седой щетине: однако, уж второй век кружит – и никакого сладу! Как при Ильиче взмыл над Рассеюшкой, так и кружит… Э-эх, чо деется на белом свете!.. Крепко призадумался Кеша, может, оно, баба и права?.. Может, с попом потолковать, как бы эдак уладить в Кедровой Пади да и во всей державушке, чтобы с Богом жить и с коммунизмом, но без воронов клятых?..
А в Кедровой Пади – праздник вроде престольного, крещенье всенародное. Батюшка перво-наперво окрестил кедровопадьцев в байкальской волне… а народ, запуганный вороном, всей деревней привалил, и малых чад на руках принёс… Потом батюшка освятил детские ясли, да ещё и прошёл крестным ходом с присмиревшим народом. Злобно кружился, ярым вихрем вился ворон над крещённой деревушкой, а тут, Емеля-дурачок своими глазами видал, вдруг с небес на белом коне спустился Егорий Храбрый, полымем пролетел над тайгой и поразил огненным копием чёрного ворона.
Тут бы и сказу конец, но кедропадьский кабатчик, бывший напарник Аверьяна, позаочь величаемый Зелёный Змий Горыныч, восхотел, чтобы поп, – в кои-то веки завернул в глухоморную деревеньку, – освятил и пьяный кабак: дескать, озолочу, но батюшка опёрся: мол, я поп старорежимный, ещё при Сталине служил, несовремённый, ваши притоны освящать не буду… ни за какие шишы. Тут ещё Тося, жена Кеши Чубунина, да бабы других кабацких ярыжек, загалдели хором, мол, спалят бесову корчму вместе с Зелёным Змием, а заодно и все дворы, где торгуют аверьяновой гиблой сивухой.
После байкальского крещения вырешили кедровопадьские мужики церкву рубить, а Степану Андриевскому в той церкве – старостой быть, и Емелю держать при себе для смирения. «Мне бы, братцы, на паперть в христорадники», – возжелал Емеля.
Минуло год, освятилась златовенцовая кедровая церква, и стал батюшка чаще в Кедровой Пади гостить, службу служить, и зажила деревенька в былой тиши, но Емеля вздохнул принародно, дескать, вы что же думаете, пеньки баргузинские, бурундуки кедровые?! Вы думаете, Аверьян одинёшенек на белом свете? Обрадели… Да их, воронов, тьма тьмущая! И посреди нас… Долго ли в ворона обратиться, ежли Богу не молиться!
Конец XX века – сентябрь 2006 года
Дворник
Сказ о захолустном писателе
Всплыло солнце над байкальским хребтом, над сумеречным чернолесьем, домовито, с хозяйским прищуром оглядело землю: серебристо играет чешуйчатая рябь на ангарской стремнине, тает густо-зелёная лешачья тень под высоким становым берегом, теплеет рыжий суглинистый яр, издырявленный норами, откуда выпархивают, заполошно снуют по-над самой рекой стрижи, и, ухватив мошку либо зоревого комара, ныряют в дуплица, кормят прожорливых чад; просыпается скошенный луг на яру с гладко очёсанным зародом сена, оживает прибрежная деревня-малодворка с вековечными седыми избами, матерыми амбарами, «чёрными» банями, ладными завознями, сеновалами, людскими и скотными дворами.
Взошло красно солнышко из таёжного хребта и обмерло, словно румяная со сна, щекастая молодуха, провожая в поле бурёнку, вдруг сомлела у поскотинных ворот, блаженно и бездумно отпахнув глаза, омытые ключевой водой до небесной синевы: Божушко ты мой милостивый, экое райское диво разлилось по утренней земле.
Вот и Краснобаев Иван, молодой заправский дворник, на пару со светилом ласково озирает чисто прометённую, вылизанную усадьбу в музейной деревне-малодворке Тальцы, потом прячет метлу под высокое крыльцо, чтоб не искушала проказников, – дальше положишь, ближе возьмёшь, и, чуя в душе лад, в мышцах отрадную усталь, смущённо улыбается – блазнится дворнику: жена богоданная, синеокая, с русой косой на млечном плече, выглядывает из зорево пылающих окошек, любуясь Иваном. Не шибко и красовитый, не франтишко завитый – пучеглазый и носатый, большеголовый и осадистый, вроде в корень ушёл, но работящий, домовитый, двужильный, не мужик – ярёмный бык, на коих бабы в войну целик драли, пашню пахали. Не присядет, сердечный, от темна до темна пашет в поте лица, чтобы ей доля да холя, чтоб и чадушки-оладушки зрели, спели, наливались силушкой, набирались ума-разума. Чуя спиной ласковый погляд, степенно, вразвалку шагает Иван к свежесрубленным баракам, что желтеют на угоре, за картошечным клином, буйно истекающим белым, сиреневым цветом, за ручьём, что утробно журчит в лохматой кочкаре и густой осоке. В янтарно смолистом бараке Иванова тенистая дворницкая камора, утаённая черёмушным и боярковым плетевом – отрадно жить в глухой и прохладной тени, когда на воле – белый зной, плавящий душу и память. В каморе той, сменив метлу на гусиное перо, куда впихал чёрный стержень, в горьких и сладостных муках денно и нощно плетёт Иван сказы и бывальщины, а то и на простушку-повестушку замахнётся, а как испишет мелким бисером светло-серые четвертушки, – отстучит исписанное на машинке.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Анатолий Байбородин Деревенский бунт [Рассказы, повести] обложка книги](/books/27746/anatolij-bajborodin-derevenskij-bunt-rasskazy-po-cover.webp)



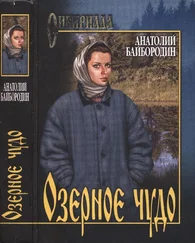

![Анатолий Землянский - После града [Маленькие повести, рассказы]](/books/216144/anatolij-zemlyanskij-posle-grada-malenkie-povesti-thumb.webp)
![Анатолий Гаврилов - Берлинская флейта [Рассказы; повести]](/books/228661/anatolij-gavrilov-berlinskaya-flejta-rasskazy-pov-thumb.webp)
![Анатолий Алексин - Мой брат играет на кларнете [Повести и рассказы]](/books/397351/anatolij-aleksin-moj-brat-igraet-na-klarnete-pove-thumb.webp)